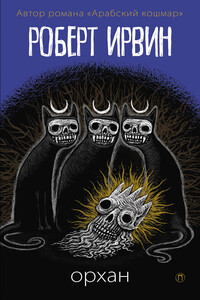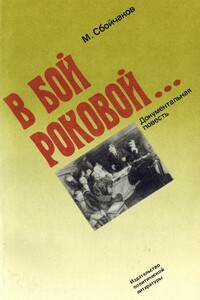— Верно, Порфирий Никитич, и даже правильно! Такой уж я косоурый человек. Глаза сами в колонку с происшествиями косят. Вот вы только послушайте… «Дама в ротонде». Рассказ, как говорится, с живой натуры. Идет по вечерним томским улицам дама в ротонде.
По отдельным признакам, молодая. Господин ЭН принимает в ней участие: следует неотступно. «Дама» заводит его в глухой двор. Ротонда на снегу… Из нее преображается мазурик и с подоспевшими двумя союзниками дочиста обрабатывает господина ЭН.
— Помилуйте, Иван Петрович! — Крылов шутливо воздел руки. — Уморил, братец, право! У меня в алтайской экспедиции студент Иван Ярлыков был, так тот поинтереснее сообщения из печати выуживал.
С победным видом Пономарев выглянул из-под вороха газет и милостливо произнес:
— Ладно, не буду более. Однако ж нынче я и научное кое-что отчеркнул для памяти.
И он подал газету.
Крылов надел очки, и с типографической полосы тотчас выхватилось знакомое имя: Н.М. Мартьянов. «Друг науки, — сообщалось в заметке, — ездил недавно осматривать музеи в Тифлисе, Риге, Митаве, Москве, Петербурге. Везде его хорошо принимали и обещали Минусинскому музею всяческую помощь. Особенно окрылила неутомимого собирателя сибирских редкостей поддержка Петра Петровича Семенова, вице-председателя и главы Русского географического общества, горячего сторонника всех полезных ученых начинаний в Сибири…».
— Ай да Коля! Ай да молодец! — возгордился за друга Крылов. — Даже в поговорку сибиряков вошел: «Достопримечательно! Хоть сейчас к Мартьянову в Минусинск!» — и не удержался, чтобы не поддеть Пономарева: — Что, Иван Петрович, это известие получше прочих будет? Не то, что ваша госпожа Эфрусси?
— Она не моя, — принял выпад Иван Петрович. — К глубокому прискорбию, — добавил со вздохом. — Иначе бы я сейчас разгуливал по парижским улицам и не портил бы свои конечности о несравненные томские тротуары, — он задрал до колен штанину и показал следы кровоподтеков на тощей ноге. — Вот, полюбуйтесь! Доски повсеместно расшатались, будто клавиши. Я давеча ступил на такую и, как видите, сыграл фугетту, — лицо его обиженно скривилось.
Крылов улыбнулся.
— Душевно сочувствую. Однако ж нельзя не признать, Иван Петрович, что вы сами накликаете на себя неприятности. Ну кто вас неволит день-деньской бегать по этим клавишам?
— Никто, — согласился Пономарев. — Кто умен сперва, а я опосле. Не могу дома сидеть, хоть ты мне што! — и попросил: — У вас, Порфирий Никитич, не осталось Гулярдовой воды? Давеча, когда я в валгусовский прокоп свалился, хорошо помогла…
— Нет, не осталось. Но я попробую изготовить, — ответил Крылов.
Он отправился на кухню составлять примочку, так называемую Гулярдову воду, состоящую из уксуснокислого свинца, спирта и колодезной воды.
Забота о пострадавшем Иване Петровиче отвлекла Крылова.
Но как только он остался один, мысли его вновь вернулись к Мартьянову, далекому и дорогому другу, воспоминания о котором всколыхнула прочитанная заметка.
С Николаем переписка велась хотя и обстоятельная, но редкая. И все же Крылова никогда не покидало ощущение, что они всегда рядом, как в юности, и никакие сибирские пространства меж ними не остужали этого чувства. Вместе, рядом… Как это все-таки прекрасно!
Надо бы письмо ему написать. О своем новом эксперименте рассказать.
Да, да. Написать письмо. Немедленно.
Откуда к Крылову пришла эта идея о разведении в Сибири шелковичного червя, он сейчас припомнить не мог. Может быть, в разговоре с нынешним ректором Кащенко? — Николай Феофанович удивительным образом мог в обыкновенном разговоре как бы невзначай подвинуть собеседника к нешуточному влечению. Профессор зоологии, великолепно ориентирующийся на всех этажах своей науки, он обожал вторгаться в сопредельные области. Так этот мягкий, но изумительно упрямый харьковчанин разбил сад при своем доме, как раз напротив университетской рощи, и решил доказать, что и «в неродной Сибирюшке зацветут вышни та яблуни». Насчет вишен, кажется, он преувеличил, а вот яблони у Николая Феофановича принялись…
Впрочем, неожиданная мысль о сибирском шелководстве могла возникнуть иным способом, не обязательно через Кащенко.