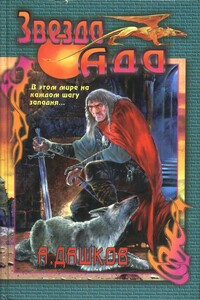Седой давно понял, что проиграл. Он смирился с вечной неустроенностью, безденежьем, одиночеством… Его мать умерла в больнице. У него не было денег и связей, чтобы отсрочить ее смерть. Задолго до этого их отношения безнадежно испортились. Мать не могла простить ему неудачи. Его картины были некоммерческими – слишком мрачными. Они не годились для офисов и контор; идеальным местом для них были бы убежища одиночек-мизантропов. Седой никому не говорил, что почти все свои картины видел во сне. Ему оставалось лишь воспроизвести их наяву, и он делал это с потрясающей точностью…
Он продолжал работать даже тогда, когда работа оказалась совершенно бессмысленной. Живопись была единственным спасением от пустоты. В его квартире не было телевизора, почти не осталось мебели. Довольно часто он ложился спать голодным. Иногда он испытывал затруднения от того, что ему нечего было надеть. Он находился на самом дне…
Вдобавок ему часто снился один и тот же, навязчивый и бессюжетный сон. Сон повторялся почти без изменений в течение многих лет по несколько раз в месяц и в конце концов довел Седого до исступления…
Он жил на окраине Салтовки – огромной городской ночлежки, сочетавшей в себе уродство урбанизации со всеми прелестями «совкового» быта. Этот тоскливый лабиринт невозможно было обойти за неделю. Грязно-белые дома выстроились длинными рядами надгробий; за светящимися окнами было иллюзорное тепло – на самом деле там гнездилась пустота. Металлические конструкции во дворах выглядели, как скелеты доисторических животных, вымытые дождем из вечной мерзлоты. Черные корявые пальцы чахлых деревьев, высаженных наспех и уже никогда не поднявшихся, торчали вдоль тротуаров. Подростки, собиравшиеся в подозрительные и опасные стайки, слушали гангста-рэп и хохотали, как гиены («Давай поспорим, что я отключу тебя, дядя?»). Люди возвращались домой, чтобы спрятаться, но мало кто из них задумывался над этим.
У Седого все было наоборот. Теперь он боялся того места, где его настигали сны. Поэтому последние несколько суток он почти и не спал. Маленькие иголки вонзались в глазные яблоки, заставляя веки смыкаться. Тяжелый туман в голове был непроницаемым и малоподвижным.
В подъезде было темно и пусто. Как всегда, обильно благоухал мусоропровод. Рядом с дверью лифта имелись надписи «SEPULTURA», «Fuck me, Gosha!» и «Голосуйте за коммунистов!», сделанные с помощью пульверизатора. Если бы Седой был трезв или чувствовал себя получше, он обратил бы внимание на то, что тишина в подъезде была неестественно глубокой. Не было слышно ни приглушенных голосов, ни звуков радио или телевизионных передач.
Сейчас ему больше всего хотелось подставить голову под струю холодной воды, а потом лечь. Он вошел в кабину лифта и стал возноситься в слабеющем сиянии светильника. При перегрузке Седому стало еще хуже; во рту появился горький привкус…
Вдруг лифт резко остановился на шестом этаже. Створки раздвинулись, и огромная бесплотная ладонь ужаса придавила Седого к пластиковой стенке.
На площадке стояла его мать, глядя в пустоту перед собой.
Пауза длилась несколько мгновений, но Седому они показались минутами. Потом мать вошла в кабину, двигаясь, как заведенная кукла, и кошмар опять был потрясающе правдоподобным. В звенящей тишине и тошнотворно раскачивающемся ящике Седой протянул руку к той, которая была мертва уже восемь лет. Он прикоснулся к ее одежде, ощутил фактуру ткани, и это ощущение парализовало его.
«Зачем ты приходишь, мама?»
Женщина безразлично смотрела на него; ее зрачки были совершенно неподвижны. Створки двери захлопнулись за ее спиной, и кабина без всяких причин стала подниматься вверх. Свет внутри нее почти померк.
Крупные капли пота катились по лицу Седого. Каждая из них казалась ему ледяным шариком, который он мечтал проглотить, чтобы как-то заполнить отвратительную пустоту, образовавшуюся на месте желудка. Ни с чем не сравнимый запах вползал в его ноздри, и Седой понял, что вот-вот его вывернет наизнанку. В голове не было мыслей, он даже не пытался искать объяснений этому жуткому молчанию.