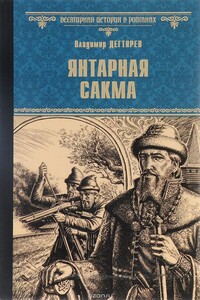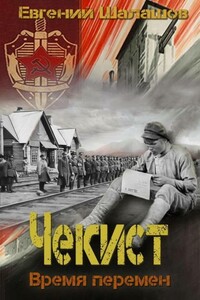Глава вторая
ВДОВАЯ СОЛДАТКА
Иван проснулся на кровати, раздетый до белья. Сам не помнил — ни как ложился, ни как раздевался. Видимо, перетащила Марфа. И как у бабы силенок-то хватило? В глаза нестерпимо бил луч солнца, а из переднего угла, где стоял стол, доносилось хлюпанье. Встал, отдернул занавеску и обнаружил, что отец, мать и жена пьют чай. Иван хмуро кивнул и вышел во двор. Сделав утренние дела, умылся, вернулся в дом. Заметил, что после вчерашнего наведен порядок. Верно, мать с женой с утра пораньше все почистили и помыли. Только присел за стол, как подскочила Марфа. Глядя на мужа глазами побитой собаки, спросила:
— Ванюш, оладушки картофельные исть будешь?
— Буду, какой разговор, — через силу улыбнулся Иван.
— Чаю попьешь али стаканчик поднести?
— Чаю, — решительно потребовал Иван.
Голова после вчерашнего побаливала и опрокинуть стаканчик было бы не вредно, но Иван пересилил себя. Знал, что если выпьет, так не остановится до вечера. Лучше перетерпеть да чайку испить. Зря, что ли, тащил гостинец из Крыма? А башка — хрен ли ей сделается, пройдет сама.
— Это правильно, — одобрительно кивнула мать, звякнув чашкой. — Чай-от, скусный какой! Почитай, с семнадцатого года такого не пивали!
Отец скривился. Видимо, рассчитывал на опохмелку, но ему одному бабы не наливали. Иван, поняв батькино состояние, усмехнулся:
— Старику-то налейте, — попросил он жену, и та, поморщившись, все-таки вытащила бутыль и налила свекру полстакашка.
— Ты чё, дура, краев не видишь? — возмутился старый. — Лей доверху.
— Опохмелишься — так весь день и будешь пелиться[2]! — пробурчала мать.
— Пошла к черту, дура, — отмахнулся отец, хватая вожделенный стакан. Отпив половину, Афиноген блаженно крякнул: — Ох, ровно боженька по душеньке моей босичком прошел!
— Ты чё говоришь-то, старый пень?! — рассердилась мать. — Неча имя Господа-то всуе поминать.
— Да пошла ты на хер, со своим боженькой, — отмахнулся отец и допил остатки.
— Ох, нехристь старый, — проворчала мать, махнув рукой. — Вот помрешь, будут тебя черти в аду мучить! Языком поганым будешь каленую сковороду облизывать за такие слова! Тебе самую большую кочергу в хлебало засунут, чтобы не матерился!
Иван, сколько себя помнил, слышал вечные упреки матери, что батька-де в церкву не ходит, батюшке руку не целует, а отец отвечал на все упреки и попреки одним: "Иди на хер, дура! Как помрем, так нам ничего не будет. Пришлепнут крышкой да землей присыплют". Вроде в старое время за такое от Церкви отлучали, к причастию не допускали. Как же это отца терпели? Или попам все равно было — верят в Бога иль нет? Сам Иван не понимал — верит он, нет ли. Но в окопах, под австрийскими, а потом белогвардейскими пулями ловил себя на том, что целовал медный нательный крестик, просил Бога сохранить ему жизнь и бормотал "Отче наш".
— Так, — поставил Иван пустой стакан и отмахнулся от жены, что порывалась налить еще чаю. — Рассказывай, что тут у вас творится-то?
— Так чё рассказывать-то? Жеребчика моего в девятнадцатом году в армию забрали, дали расписку — вот кончится война, вернут его в целости и сохранности. Война кончилась, а мне хрен на лопате, а не коняшка. Я в волисполком ходил, а там говорят — дед, мы твоего коняшку на фронт не посылали, кто забирал, с него и требуй. А кто забирал-тο? А забирал его Лямаев со товарищи. Так расстреляли Лямаева за миродерство и шкурничество, а с покойника какой спрос? В уезд пошел, а мне и там отворот-поворот — мол, погиб твой жеребец за светлое будущее, так радуйся, что лошадь коммунизму послужила. Велели в кассу идти, получить дензнаками два "лимона". Это чё, две буханки хлеба? Тьфу ты, едрит твою в дышло и с просвистом.