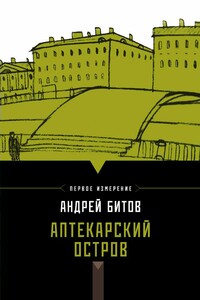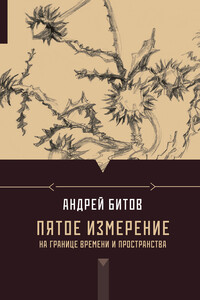Все они были в нем, и никого не было рядом, кроме жены его. Он вдруг проникся к ней таким сильным, отчаянным и одиноким чувством, которое нельзя бы было назвать и любовью. Это одиночество рвалось из него, как зверь, как вой, и чем плотнее, чем горячее и глубже прижимался он к жене, тем страшнее и неутолимее становилось это одиночество. В окне совсем низко, будто падая на дом, опять проревел самолет, наполнив стекло дрожанием и гулом, — рассек черный лоб ночи. Смерть, которую Монахов так в упор, так сразу, так хорошо забыл, смерть в образе солдата упала, как звезда за окном, отдав Монахову последнюю каплю жизни, которой ему недоставало, — Монахов вскрикнул, раздался легкий свет, странно осветив ночные предметы из стульев, занавесок и стен… И в тот же миг вечная частица смерти прошла сквозь Монахова, чтобы продолжить жизнь отца его вне сына его.
Не сестра, не дочь, не мать… Больше родственник, чем они, чужой человек. Нагловатое, напрасное смущение: знают друг друга, не хотят знать. Сейчас разбегутся, разъедутся. Лишнее… Что лишнее? Все, что было после, — лишнее. А сейчас лишние эти пять минут до отхода, фальшивый перрон. Перрон всегда фальшивит. Ждет тебя дорога… Жжет. Самые страстные разлуки, самые горькие расставания — все равно ему каждый раз хотелось: скорей бы… Скорей бы тронулся, скорей бы перестать приникать друг к другу на людях, что можно выжать еще из этой минуты? после ночи, после дня, после чемодана, после стирки носков и трусов и яблока в дорогу, после раздумья о последнем разе, неудобная поза, в передней, что ли… нет, кажется, обошлись, чтобы потом остался этот недоеденный торт… Интересно, вот в те подлинные минуты это чувство фальши — как? — взаимно? — или только у него, бесчувственного… Ничего себе бесчувственного — локти грыз… Но — всегда, всегда хотелось, чтобы все провалилось скорее под колеса, с глаз долой — в самое сердце. А сейчас — не хочется. Все равно не нужно, нечего сказать, да и сожалений никаких… а не хочется. Все-таки жалко. Мнутся. Смущение. Не то чтобы сдерживается, а лень сказать: предел. Какое-то непонятное пространство ее, для него несуществующей жизни между ними, будто ровное поле с желтыми цветами… Вот-вот, будто она сейчас ему снится, как снятся мертвые, которые давно уже не живут, не в курсе… А подумать, что после них было?.. Так, пустое, двух слов не хватит, десяти — много, отмахнемся, промолчим… Какая-то комфортабельная неловкость. Чуть-еле-еле — кокетство: не слишком, потому что не помолодела же за десять лет, не похорошела, а все-таки — смотри, то же лицо, улыбка отчасти, неоконченность жеста… Неокончательность — какая кошмарная неокончательность вся эта жизнь! Выраженная вот в этой корзинке, которую передать… Бог знает, с какой ерундою! Так ли она уж нужна — мне, ей, тому, кому передать, самой себе она даже не нужна. А уж мы друг другу — ни с какого боку! Вспомнил: сбоку… Еще и потому полкокетства: что — просто так, не нужно, не по делу… Разозлился, удивился вялой складочке ревности, шевельнувшейся, однако, под десятилетней толщью. Ну, уже пора!.. Представил себе ее возвращение будто бы в избушку за желтым полем, и то же, что сейчас, пронесенное назад через поле лицо, такое же половинчатое, уклончивое, никому адресованное, и не ему, и не тому… Сон, смерть. Поцелуются или не поцелуются? Поцеловались. Чмокнули воздух над плечом. Щека слабенькая, мягонькая, скоро бабушкина… Значит, помнит ту щеку. По сравнению… Уже из вагона: последнее лицо, вдруг что-то в ней пробудилось, дрогнуло, или — показалось? или женщина все-таки, ничего не может просто так? или… да ну! дура! шляпу какую надела!., стоит кулем… ну, что за баба, прости Господи! С трудом не заплакал. И когда отнесло ее наконец, не надо было наклоняться в окно с благосклонно-нежно-равнодушно-соблазнительно-независимо-тепло-человечно-мужской улыбкой… Уф! совсем другой человек выпрямился в проходе, отыскивая кресло: освободившийся, стройно-высокий, неординарный… Странно, ведь уже десять лет свободен — от чего же он освободился сейчас? не только от неловкости на перроне? Вот именно что не только…