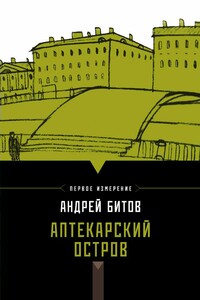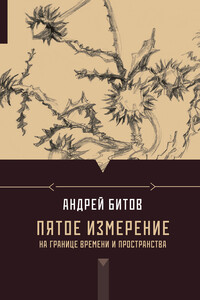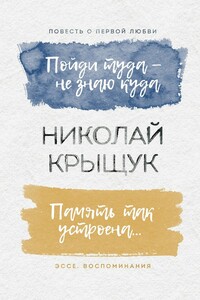Наталья прошла к окну — там сбегались сумерки, а в комнате уже было совсем темно. И она долго выглядывала там что-то, в более светлых сумерках.
— Ленечка? — догадался Монахов.
— Нет, — сказала она и как-то решительно стала одеваться, А ты о нем не смей говорить.
Это почему же? — насупился Монахов.
— Так… Он очень хороший и умный мальчик.
— Вот как.
— Он знаешь какие стихи пишет!.. — запальчиво сказала Наталья.
«Ну не девчонка ли? — подумал Монахов. — Ребенок».
— Ну!.. — протянул он. — Тебе посвящает?
— И посвящает! — с вызовом сказала Наталья.
— Наизусть помнишь?
— И помню.
— Прочти, — Монахов попробовал ее приобнять.
— Сейчас… Отодвинься.
Приди скорей и убирайся прочь!
К пяти — рассвет наставил свое дуло,
Туман упал, и воровская ночь
Вслед за тобой за угол завернула.
Часы без стрелок — лучший из гербов,
Я попадаю в ватные объятья.
Со словом отвратительным «любовь»
Рифмую пустоту мероприятья.
Не бойтесь! Больше вашего не дам
За эту жизнь. Не надо сдачи…
Монахов рассмеялся:
— Сколько ему лет?
— Восемнадцать.
Монахов засмеялся еще искусственнее и сильнее.
Наталья обиделась:
— Ты ничего не понимаешь! Какое значение имеет возраст! Если хочешь знать, я его всего на четыре года старше. Это ты старик, инженерная душа. А нам нравится.
— Ого! — сказал Монахов. — Я старик?
— Сластолюбивый старик!
Ему вдруг стало скучно, тошно — его настигла кратность бытия: что-то уже было, будто слово в слово, миг в миг, свет тот же… что-то уже было из этого неповторимого. Ни краткой боли, ни короткой обиды — ничего не испытал Монахов, смертельно обижаясь. Он решительно поднялся, поджал губы, с чеканным профилем стал натягивать брюки.
— Ты что? — встрепенулась Наталья. — Ты куда? Ты что, обиделся? Ты же не обиделся, ты что, притворяешься? — точно подметила Наталья.
На эту ее точность Монахову ответить было нечем. Еще безмолвнее завершал он туалет. Он уже вошел в роль, и тем искреннее, чем притворнее.
— Монахов, милый, ну прости! Я не хотела. Я ничего не сказала. Стихи плохие, Монахов! Постой, куда ты! Я не буду. Я не знаю что… Монахов! Монахов, умоляю!
Монахов милостиво позволил себя обнять. Холодный, гордый.
Монахов, не уходи! Не уходи, прошу!
А Монахову ведь и не к кому было уходить… Он перестал притворяться — и расплылся в счастливой улыбке.
— Не ушел! Не ушел! Ну что это на тебе какие-то тряпки? Ну снимай же! Монахов…
К ночи они вышли на обезлюдевшую темную улицу, и Монахов почувствовал себя на юге. Это чувство он знал и очень любил, как первый в сезоне огурец. Такое чувство, будто попарился и вышел: легко, тепло и уже вечер. После парилки, выйдя даже на мороз, Монахов всегда вспоминал юг. Нельзя сказать, чтобы сейчас он вспомнил о парилке и сопоставил.
— Юг — это юг, — сказал он, глубоко вздохнув.
Звезды усыпали небо, фонари уже погасли, однако было как-то светловато в этой полной ночи. Пахло костерком и каким-то первым сухим цветением. Здесь отцвела рыночная мимоза, готовил свои свечи каштан…
Каштан черемухой покрылся,
Бульвар Французский был в цвету.
Наш Костя, кажется, влюбился… —
пропел Монахов и рассмеялся.
— Представляешь, «каштан — черемухой…». Я так в детстве пел. Я ведь здесь был в детстве…
— Правда, влюбился? — Наталья счастливо чмокнула его в щеку.
Праздник не кончался. Девушка рядом, и именно Наташа. Монахов чувствовал себя так юно! Он жалел, что давно забыл и не испытывал этого. Жизнь… Он чувствовал себя ровно так, как когда-то, на какой-то практике, в какой-то деревне, после танцев… Не молодым он себя все-таки почувствовал, а как молодой. Разница. Эта мысль смутна, как чей-то шорох, какой-то шелест, что-то вспорхнуло, улетело, заскрипели тормоза. «Как юный…» — вздохнул Монахов, прислушиваясь, но, мысли той так и не подумав, как и про баню — не сравнив, не вспомнив, вдруг сказал:
— Слушай, а здесь парилка, в Ташкенте, есть? Здесь парятся?..
Ему только этого до полноты не хватало…
Такая пустая, полная ночь! И тут же — такое обилие запыхавшейся, подбежавшей вплотную жизни, в которую он почему-то сразу верит, что это жизнь, а не какие-то городские шумы: качнулась ветка, сорвалась птичка, прошелестела и осталась позади мысли, неузнанная и непойманная. Никогда он не узнает, о чем только что подумал: это наполняло его счастьем, он вдыхал этот согретый бензиновый воздух со следами запахов одеколонного цветения… Он ничего не видел, и это трепетное «ничего» — жило. А главное — пусто было…