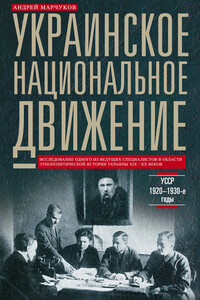Понадобилась упорная работа энтузиастов — историков и литераторов, открывавших обществу красоту и уникальность русского прошлого и русской культуры. А то и прямо убеждавших соотечественников менять устоявшиеся стереотипы, как это делал тот же Николай Карамзин в своём «Илье Муромце»:
Мы не греки и не римляне;
Мы не верим их преданиям…
Нам другие сказки надобны;
Мы другие сказки слышали
От своих покойных мамушек.
[94]Потребовалось прямое военное столкновение с той самой обожаемой Европой, которое для русского общества, и в том числе его высших кругов, приняло характер войны Отечественной. А также изменение культурных приоритетов в самой Европе, повернувшейся лицом к собственной народной традиции.
1820–1830-е годы стали периодом, когда в России пробудился интерес к разысканию и изучению старины, начались археологические раскопки античных поселений, степных курганов, славянских городищ, Куликова Поля, древнерусских городов — от Старой Рязани до тех, что располагались в Малороссии, в том числе и Киева. Но понимание возраста, архитектурного стиля и культурного значения многих памятников приходило далеко не сразу. Тот же Карамзин, составляя в 1817 году «Записку о московских достопамятностях», коротко отозвался о Покровском соборе на рву (храме Василия Блаженного) как о «готической церкви»[95].
К тому же нынешнее понимание «исторического» гораздо шире, чем оно было в начале XIX столетия. Теперь ценной представляется застройка даже конца того века, не говоря уже о его первой половине или памятниках века XVIII. А для времён Пушкина и Гоголя это была отнюдь не история, а современность, повседневность, и притом — далеко не всегда эстетически безупречная, особенно когда речь шла о типичной городской застройке. От неумолимого бега времени и дыхания современности не была застрахована даже Москва. Московские древности «представляют странное зрелище смеси с новым, — замечал по этому поводу в своей статье «Петербург и Москва» литературный критик В. Г. Белинский. — Дух нового веет и на Москву и стирает мало-помалу её древний отпечаток»[96].
Тем более не всегда и не всем удавалось увидеть «Русь» в современном им провинциальном городе, среди «грязных улиц» и рекламных «вывесок ремесленников», даже если старинные соборы и кремли и не перестраивались согласно более поздним вкусам, как те же киевские или черниговские храмы. «Напрасно в Пскове… искал я глазами каких-нибудь следов его достопамятного по летописям прошедшего, — записал своё впечатление от посещения в 1826 году этого одного из древнейших русских городов дипломат Д. Н. Свербеев, — в нём решительно не на чем было остановить внимание проезжего»[97]. А вот ощущение В. Белинского от знакомства с другим старинным русским городом: «хотя Новгород и древний город, — замечает он, — но от древнего в нём остался только его кремль, весьма невзрачного вида, с Софийским собором, примечательным своею древностию, но ни огромностию, ни изяществом»[98].
Слова Белинского — яркий пример не только того, как могла выглядеть или восприниматься древность, но и как поменялись приоритеты и сам взгляд на мир у носителя светской вестернизированной культуры по сравнению с человеком культуры православной. Белинский видит в Софийском соборе лишь внешние формы: древность, размер, изящество (собственно, теми же глазами многие современники смотрели и на церкви Киева и Чернигова), тогда как люди православной культуры обращали внимание на внутреннюю сущность храма (этого и любого другого) как дома Божьего. (Кстати, для новгородцев София всегда была не просто собором, а символом и зримым воплощением Новгорода, его хранительницей.[99]) А ведь Белинский был вдумчивым и проницательным человеком, стремившимся проникнуть в суть вещей! И потому его слова ещё более показательны.
В киевских и черниговских соборах паломники искали не внешнюю древность, а внутреннюю сущность. И «Святая Русь» для них заключалась именно в этом. Светское сознание искало «Русь» ещё и во внешних формах. Да, и в великорусском городе тоже надо было приложить усилия, чтобы представить на его улицах образы великих предков.