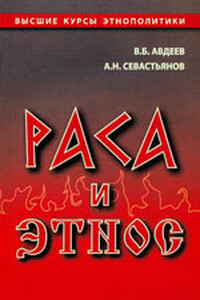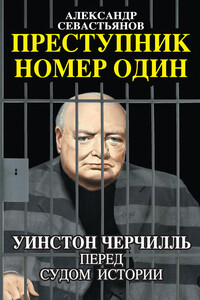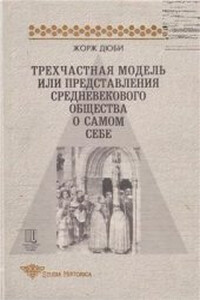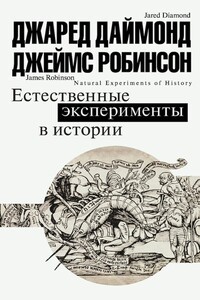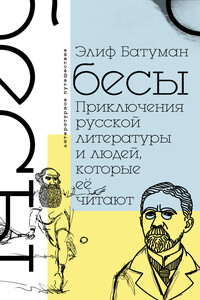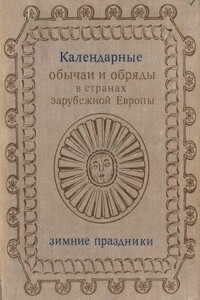(139), исполнение которого потребует удаления из обязательной школьной программы не только астрономии, но и ботаники, зоологии, биологии, географии, физики, химии, да, пожалуй, и истории. И т. д.
Подобная абсолютизация не только жёстко раскалывает русский народ, отграничивая от него численно не столь уж значительную православную фракцию в качестве единственно «русской». Но она грубо искажает и историческую ретроспективу, искусственно во много раз сокращая срок пребывания нашего племени на Земле, нашу историческую традицию. Ведь современные русские — точный биологический слепок (читай: прямой и неизменный потомок) славянского суперэтноса, а тот, в свою очередь, — белой расы, а та, в свою очередь, — кроманьонской проторасы. Минимум сорок тысяч лет назад появились мы (т. е. наши предки) в Европе, минимум пятнадцать тысяч лет назад славянский язык выделился из ностратического (индоевропейского) праязыка. Никак не позднее возникли первые религиозные представления и обряды наших предков. На фоне этих цифр тысячелетие христианства ни в коей мере не выглядит чем-то исключительным, конструирующим расу, этнос или нацию, не даёт оснований преувеличивать своё значение.
Если так искажается ретроспектива, то чего же остаётся ждать от перспективы? Акцентированный, агрессивный, воинствующий клерикализм в мире и стране, с каждым годом всё более заслуживающих наименования постхристианских, неминуемо заведёт нас в тупик противоречий, из которых не будет мирного выхода. Осуществление планов «Русской доктрины» в отношении РПЦ, как и преобразование России на манер Мавритании, возможно только через новое кровавое насилие над нашим народом, в том числе духовное. Статистика опросов общественного мнения не даёт оснований для иного прогноза. Если начало 1990-х было отмечено всплеском христианизации населения, которое накинулось на ещё вчера бывший запретным плод, то в дальнейшем пошёл заметный откат. Ведь по оценкам самой же РПЦ, несмотря на то, что около 80 % русских крещены в православие, однако практикующих православных (регулярно посещающих храмы) в России сегодня не более 3–7%[40], и это, можно поручиться, не авангард общества. Но, скажут нам, как знать, вдруг остальные 73 % крепки в вере до обалдения, просто в храмы ходить недосуг? Да нет, не похоже. Ведь социологический рейтинг православия (4 %) стоит ниже даже идеи возрождения СССР (7 %) и едва ли не «догоняет» коммунизм (3 %)[41].
На столь хилой социальной базе столь амбициозных прожектов разумные люди не выстраивают.
Но дело не только в статистике. Как пишет один из наиболее проникновенных исследователей русской темы Валерий Соловей: «Можно ли считать современных русских людей православными? Конечно, нет! Для большинства людей, называющих себя православными, конфессиональная принадлежность не более чем опознавательный знак, за которым не стоит никакого реального содержания. Это типичный симулякр… Лишь горькую усмешку способен вызвать приторный оптимизм насчёт воцерковления. В стране, где сотни тысяч бездомных детей скитаются, а старики роются в помойках, Христа распинают каждый день… Где хотя бы одна из тех превосходных черт — отзывчивость, “милость к павшим”, “нищелюбие”, которые мы так охотно приписываем русским, но не обнаруживаем в других народах? Увы, сегодняшняя Россия — одно из наиболее постхристианских, социально жестоких и индивидуализированных обществ современного мира… Это не морализаторская инвектива, а результат многочисленных масштабных и глубоких исследований ценностного и культурного профиля современных русских»[42]. Как ни печально, не согласиться со сказанным невозможно.
Соловью вторит ведущий аналитик социологической службы ВЦИОМ Леонтий Бызов, который суммирует исследовательский зондаж современного российского общества в интересующем нас аспекте так: «Многое говорится про объединяющую роль православия, будто бы способного превратить наше общество в дееспособную нацию… Идея о православии как основе нации тоже носит ”парадный” характер, хотя 70–75 % россиян называют себя православными. Однако это, на мой взгляд социолога-скептика, — не более чем компенсация за недостаточную национальную идентичность. Поэтому я бы воздержался от заявлений о некоем “православном ренессансе”… Адептам “православного ренессанса” я бы посоветовал оценить — сколько построено храмов, сколько служится православных литургий — и на сколько ровно за тот же исторический промежуток времени упала самая обычная нравственность наших сограждан, даже не говоря уже и о каких-то христианских заповедях. И трезво сознаться, что эти два процесса попросту идут совершенно в разные стороны… Даже советская мораль при всей её определённой ущербности была по сути ближе к христианской, чем нынешняя, в стране “торжества православия”»