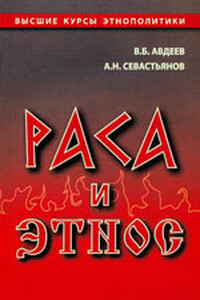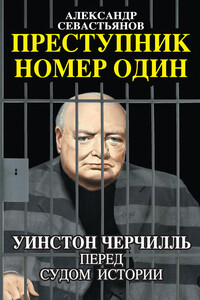Сверхнациональная нация, или Смерть русским
Внеположная русскому народу в масштабах всей Земли, «Русская Доктрина» внеположна ему и в масштабах собственно России. Ибо имеет в виду не его, если так можно выразиться, личную судьбу и благо, а судьбу и благо всего населения страны в целом. Или, по терминологии доктринёров-смыслократов, сверхнациональной нации. Опасность такого подхода для нас, русских, выверена всей нашей историей, и сегодня представляется прямо-таки смертельной.
«Идея единства нации (единства языка, ценностей, поведения, культуры)… должна быть сверхнационально-русской» (226), — так уверяют нас смыслократы, недаром исключившие общность происхождения из списка признаков нации. И разъясняют: «Всякий, кто вставал с нами в ряд и брался за топор и пилу, — тоже становился русским, будь он татарин, бурят, осетин, таджик или китаец» (271), «непринадлежность к великороссам и славянам не делает граждан России нерусскими» (273).
Извращённое понимание русскости — краеугольный камень доктринальной смыслократии. Здесь проходит главный водораздел, делающий невозможным приятие РД в целом, невзирая ни на какие её подлинные и мнимые достоинства. Ибо принять доктринёрскую трактовку русскости — означает предать свой родной, собственно русский народ, согласиться с его смертью (точнее, с похоронами заживо), благословить его исчезновение в кратчайшей перспективе. Это всё равно, что превратить свой отчий дом в общежитие, а собственную родную семью променять на жилтоварищество, признав, ни с того ни с сего, родным всё пёстрое население общаги.
Для нормального русского человека это вещь совершенно невозможная. Я могу уважать и ценить инородца, разделившего со мной тяжкий труд, особенно воинский. Я и полюбить мог бы такого человека, но только не так, как любят сына, брата, отца. Мне даже и неважно было бы, хорошо ли он говорит по-русски, знает ли Пушкина, верит ли в Христа или Перуна. Уважать и любить можно любого работника, сотрудника, соратника, свою рабочую лошадь или дойную корову, наконец. Но никто и никогда не заставит меня принять в семью ни лошадь, ни корову, ни работника, не заставит меня относиться к ним как к родным. Как ни одну даже самую лучшую в мире женщину я не соглашусь принять вместо своей родной матери. Это — совершенно разные вещи! А если меня будут пытаться склонить к тому силой, я возьмусь за оружие.
Моя семья — это моя семья и только.
Мой народ — это мой народ и только.
Замечательно в этом контексте откровенное признание авторов: «Консерваторы видят в частях нации членов семьи — если это не родные дети, не своё племя, то государство выступает как сиротский приют, усыновляющий племена» (39).
Вот-вот, именно: государство как сиротский приют. Так смыслократы понимают идеал! Большое спасибо. Мы это знаем не понаслышке. Мы, русские, всей шкурой восчувствовали, что это значит, когда тёплый родительский дом превращается в сиротский приют, ведь именно в такое горько-сиротское положение нас сразу же поставила советская власть. А каково иным детишкам, инородцам, у которых живы папа-мама, когда их в сироты записывают, под приёмных родителей отдают? Ведь у них и свои настоящие родители есть, любимые, чтимые, а им говорят: нет, дорогие, вы теперь дети другого рода-племени! Ведь так вам же лучше, сытнее, почётнее! А они не хотят менять родных — на почётных… А при этом каково родным-то детям, когда их дом наполняют чужие сверстники, к которым требуется относиться как к своим, отдавая, хочешь-нехочешь, любимые игрушки и самые сладкие кусочки? Каково, наконец, жить законному наследнику хозяина-отца, в доме, где распоряжаются сменяющие друг друга отчимы, при которых бегают по двору десятки детишек, все одинаково свои, все одинаково чужие? Как чувствовал бы себя Телемах, если бы Пенелопа, вместо того, чтобы ждать Одиссея, вышла бы тем временем разок-другой-третий замуж, наплодя полный двор бастардов, претендующих на хозяйство телемахова отца? Не схватился ли бы законный сын царя Итаки раньше времени за отцовский лук?!