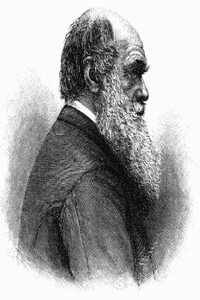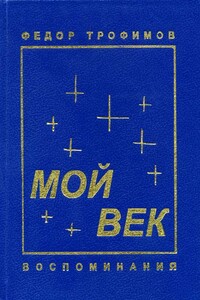Мало того, он в значительной степени затормозил появление этой идеи, придав чрезмерное значение различию венозной и артериальной крови. Венозная кровь – грубая и служит собственно для питания, артериальная – одухотворенная и снабжает тело духами. Две эти жидкости могут сталкиваться и смешиваться местами, но не могут составлять одного целого, одного потока; каждая движется независимо от другой по своей системе сосудов.
Таким образом, верное наблюдение (различие между двумя родами крови), неправильно истолкованное, явилось камнем преткновения для дальнейших успехов науки. Многие из противников Гарвея указывали на различие между венозной и артериальной кровью как несовместимое с учением о кровообращении.
Гален не знал и малого кровообращения и также затормозил правильное объяснение этого процесса. По его воззрениям, венозная кровь должна переходить из правой стороны сердца в левую (и обратно) – но каким образом? При помощи отверстий в стенке, разделяющей правый и левый желудочки, решил он. Четырнадцать веков спустя анатомы еще мучились с этими отверстиями, тщетно стараясь увидеть их и в то же время не смея не видеть. На этом и остановились понятия древних. Их последнее слово: две системы сосудов, два рода крови, у каждого из них – свое помещение, свое назначение, свое движение.
Итак, древние оставили довольно законченную и стройную, но совершенно ошибочную систему воззрений. Если ошибки посредственности могут являться помехой для дальнейшего развития науки, то ошибки гения – тем более. Система Галена оказалась впоследствии тяжким ярмом для физиологии, освободившейся от него только благодаря Гарвею.
Без сомнения, древние подвинулись бы и дальше, но с падением языческого мира пала и языческая наука. Александрийская школа, давшая миру столько блистательных открытий, была уничтожена; ее библиотеки и музеи, зверинцы и ботанические сады, обсерватории и анатомические театры – разорены; древние философы преданы проклятию, опыт и наблюдение признаны ненужной и вредной забавой. В западноевропейском обществе возникло и утвердилось учение о «ложной науке мира», основывающейся на рассечении трупов, наблюдениях над звездами и тому подобном, и «науке истинной», которая не нуждается в подобных средствах. «Ученье – вот чума! Ученость – вот причина всевозможных бедствий, одолевающих человечество!» Стоит только оставить эти «ненужные глупости», отказаться от попыток познать природу и подчинить ее власти людей – тогда все пойдет хорошо…
«Не по незнанию того, чем интересуются ученые, – говорит Евсевий, – но по презрению к таким бесполезным вещам мы пренебрегаем ими и обращаем душу к лучшей деятельности».
Современному читателю хорошо знакомо это великолепное презрение к науке. Ничто не ново под луною, – не новы и нападения на «научную науку»; мало того, в ту эпоху, о которой мы говорим, они одолели «ложную науку» и принесли обильные и роскошные плоды. В то время наука была еще слишком слаба, чтобы устоять в борьбе с обскурантизмом, когда он овладел высшими классами общества. Именно та сторона науки, которая доступна массе, – ее практическое значение – в то время почти не существовала. Оттого и нападки на нее могли иметь успех не только в кругу невежд и скорбных главою, но и среди образованного по тогдашним меркам сословия. В наше время наука сильна тем, что без ее помощи нельзя ступить шагу, нельзя дохнуть, нельзя повернуться. В числе окружающих нас предметов вряд ли найдется хоть один, который мог бы явиться на свет без помощи науки, без открытий механики, химии и прочего. При таких условиях ненавистник «земной мудрости», отрицающий науку, пользуясь на каждом шагу ее плодами, напоминает особу, которая отрицала дуб, питаясь желудями.
Но в те времена, как мы сказали, наука не могла устоять против обскурантизма. С уничтожением научных центров, с закрытием древних философских школ она должна была исчезнуть. Любознательный человек не находил ни школ, ни книг, ни учителей, ни пособий для занятий; нельзя и негде было наблюдать светила, анатомировать трупы и т. д., тем более, что на подобного рода занятия смотрели косо, и судьба Ипатии, растерзанной александрийской чернью, служила недвусмысленным предостережением дерзкому, который вздумал бы пойти наперекор общему мнению. И вот «ложное учение мира» исчезло, и воцарилась средневековая тьма.