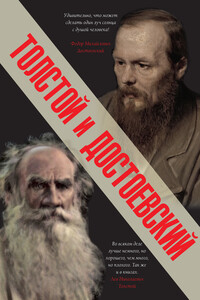Заметив мое восхищение, Лангер пригласил меня в гости и дал мне урок вокала. После нескольких уроков он сказал: «Тебе стоит пойти в музыкальную академию». Папа не возражал и начал приготовления. Я выдержал вступительный экзамен и был принят. Меня зачислили в класс к великолепному педагогу — Адольфу Фогелю из Штаатсопер, знаменитому Лепорелло, Бекмессеру, Альбериху, Варлааму, с учениками по всему миру (одним из них был Норман Бейли, могучий Макбет, Летучий Голландец, Ганс Закс и Гремин).
Учиться петь — совсем иное, чем учиться размышлять, хотя есть и некоторое сходство. Для того и другого есть учебники — партитуры опер, месс, ораторий в одном случае; учебники, статьи, лекционные заметки — в другом. Вы можете учиться у тех, кто преуспевает. Но голос и мозг — не одно и то же. Столкнувшись с пока непосильной для него задачей, мозг смущается, не понимает, но остается в хорошем рабочем состоянии (сейчас я говорю о сложных математических или физических проблемах, не о размышлении над пьесой или романом). Голос, используемый таким же образом, дрожит, слабеет и пропадает. Сотни талантливых артистов потеряли голоса, когда пели партии, слишком сложные для их способностей или для их стадии развития. Математический гений, хотя и требует некоторой тренировки, может с ходу браться за самые сложные задачи. В этом случае нет необходимости «расти». Певец должен ждать. В двадцать лет он или она не может петь то, для чего нужно десять лет физической, музыкальной и духовной подготовки. Это потому, что пение задействует тело в целом — не только легкие, мозг и диафрагму. Просто зайдите в консерваторию и прислушайтесь: вот несколько тактов концерта для виолончели; в другой стороне неуверенный голос поет гаммы; вступает пианино; вдалеке слышна ария — поют чисто, с фразировкой, но исполнение прерывают из-за небольшой ошибки в интонации. Всюду здесь умы, тела и души приглашают, умасливают, умоляют и заставляют слиться воедино и служить тому или иному произведению.
Кроме того, методов обучения почти так же много, как и самих учителей. Некоторые педагоги сразу берутся за песни и арии. Они берут простую музыкальную пьесу, которая требует лишь зачаточных способностей, и пытаются вырастить голос, работая над ним. Затем они переходят к следующей пьесе, по ходу экспериментируя. Другие начинают с гамм, затем переходят к вокальным упражнениям, и, наконец, приступают к ариям, которые не требуют определенной категории голоса. Категория(тенор, баритон, певучий бас или глубокий бас), по их мнению, должна выясниться в процессе обучения. Третьи просиживают в гаммах месяцы и даже годы. Педагог может вмешиваться в личную жизнь ученика — например, он может посоветовать девственнице-сопрано с кем-нибудь переспать, чтобы добавить в голос искру. (В наши дни такой совет вряд ли нужен, но он был в ходу, когда я начинал петь, и некоторые учителя проделывали необходимую работу сами.) У одних учителей кружится голова от какого-нибудь прекрасного голоса, и они поощряют учеников петь музыку, которая далеко превосходит возможности певца. Другие строги и консервативны.
Фогель был из последней категории. Он просил меня говорить тихо и никогда не пытаться исполнить что-нибудь из опер. Я пел гаммы — пианиссимо, пиано, меццо-форте в самом крайнем случае. У нас случались трудности. Иногда я сипел или выдавал невероятное разнообразие уродливых звуков; но мало-помалу Фогель и я преуспели в постановке моего голоса. У голоса менялся характер, и он рос до тех пор, пока мой рот не показался уже слишком мал, чтобы удерживать его в себе. «Мировой голос», — говорили мне люди, когда я, пренебрегая советом Фогеля, пытался спеть арию или народную песню; а однажды ко мне даже подошел театральный агент, который услыхал мое выступление в трамвае.
Теперь мое направление жизни вполне определилось — днем я занимался теоретической астрономией, особенно меня увлекала теория возмущений; за этим следовали прослушивания, тренировка, вокальные упражнения, вечерами я шел в оперу (где меня ждали шуты вроде ван Бетта[12]