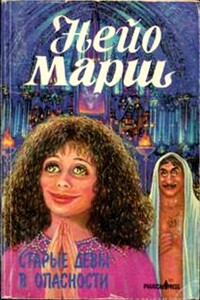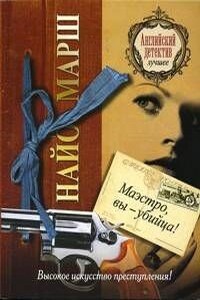— А что чувствовали вы?
— Ну, естественно, мне казалось, что все это в порядке вещей. Я бы вообще сюда переселился, если б мог. Но она была очень умна. Я бывал здесь через день, по часу, и пряников получал больше, чем кнутов. Она никогда не заставляла меня заниматься слишком долго, и мне не надоедало. Теперь я могу оценить, сколько выдержки потребовалось с ее стороны, ведь по натуре она типичный погонщик рабов. — Он помедлил, вспоминая. — Фу! — внезапно сказал он. — Какой же дрянью я был!
— Почему?
— Я воспринимал ее всерьез. Нес всякую чепуху. Рассказывал ей, какие переживания у меня вызывает Чайковский, и выдавливал третью симфонию на пианино с чувством и фальшью. Внушал себе, а также и ей, что мне не по вкусу «Серенада на осле».
— В десять лет? — изумился Аллейн.
— Годам к тринадцати. Я также писал тогда стихи, все больше о природе и высоких идеалах. «Мы должны быть сильны. Только горные пики над нами. Дети нашей страны, никогда мы не станем рабами!» Я переложил это на музыку и преподнес ей на Рождество с красивой акварельной картинкой. Нет, правда, я был ужасен.
— Так, — мирно заметил Аллейн, — но к тринадцати, если не ошибаюсь, вы были в интернате.
— Да. За ее счет. Меня уговорили.
— Пребывание в интернате вы назвали бы успешным? — поинтересовался Аллейн.
К его удивлению, Клифф сказал:
— Да, как ни странно. Я, конечно, не одобряю систему. Образование должно быть уделом государства, а не бескровных неудачников, истинная цель которых — воспитывать классовое сознание. Преподавание в целом было просто на комичном уровне, но имело два-три исключения. — Он заметил, что Аллейн поднял бровь, и покраснел. — Вы думаете, что я неблагодарный щенок?
— Я просто очень надеюсь, что вы, вероятно, откровенны и что вам еще нет и восемнадцати. Но, пожалуйста, продолжайте. Значит, там были свои плюсы?
— Есть вещи, которые трудно испортить. Сначала, конечно, все меня задирали, и я был несчастен. Вплоть до того, что помышлял о самоубийстве. Но у меня оказался крепкий котелок, и это меня спасло. Я получил немало лавров на школьных концертах и научился сочинять слегка непристойные лимерики. Это помогло, и я попал к хорошему преподавателю музыки. И еще я нашел настоящих друзей. Людей, с которыми можно разговаривать.
Эта фраза перенесла Аллейна на много лет назад, к темному кабинету и звону колоколов. «А ведь, — подумал он, — мы были такой же кучкой эгоистичных щенков».
— Когда вы все еще были в интернате, миссис Рубрик поехала в Англию, не так ли?
— Да, тогда это и случилось.
— Тогда случилось что?
Перед отъездом Флоренс навестила молодого Клиффа в интернате, стараясь завоевать его, как несколькими годами раньше Урсулу Харм. Однако с меньшим успехом. На взгляд критически настроенного школьника, она допустила всевозможные просчеты. Она говорила в присутствии одноклассников Клиффа о нем с директором пансиона. Что еще хуже, она настаивала на беседе с его учителем музыки, человеком утонченным и строгим, и внушала ему, что играть надо с душой, и говорила о произведениях Мендельсона. Клиффу стало в тягость ее покровительство, ему казалось, что мальчишки смеются над ним за спиной. Он беседовал с глазу на глаз с Флосси, которая смутила его, говоря о его конфирмации и даже, выражаясь биологическими терминами, о его созревании. В ходе этой беседы она сказала, что ее очень печалит то, что ей не дано иметь сына, причем почти высказала предположение, что по вине Артура Рубрика. Она взяла его лицо в свои сильные ладони и всматривалась в него, пока мальчик не покраснел. Затем она напомнила обо всем, что сделала для него, мягко, но достаточно ясно, и добавила, что совершенно уверена в его истинно сыновней благодарности. «Мы ведь близкие люди», — сказала она. У него похолодела кровь.
Она писала ему длинные письма из Англии и привезла ему великолепный граммофон и множество пластинок. Ему было теперь почти пятнадцать лет. Неприятное впечатление об их последней встрече постепенно померкло. Он вполне освоился в интернате и усердно занимался музыкой. Сначала его отношения с покровительницей, вернувшейся из Англии, складывались достаточно счастливо.