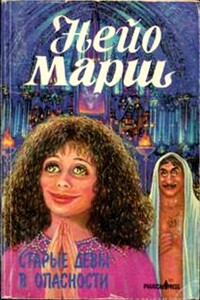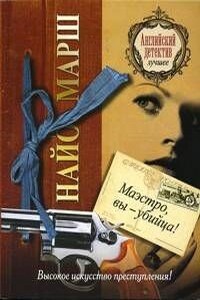Именно шлифовка фраз сблизила мужа Флосси и ее секретаршу. Однажды у Флосси попросили статью о роли женщин в доме и на ферме для еженедельника. «Она была польщена, — сказала Теренция, — но почувствовала себя несколько неуверенно». Явившись в кабинет, она разглагольствовала о красоте и предназначении женской домашней работы.
Она утверждала, что жена фермера ведет исключительно красивую жизнь, ибо посвящает себя первоосновам (она крайне редко сооружала подобные фразы) человеческого существования. «Благородная жизнь», вещала Флосси, вызывая звонком Маркинса, «она посвящена…» Но изречение искажало картину будней любой фермерской жены, чей рабочий день длился четырнадцать часов и был соизмерим разве что с трудом каторжника. «Подберите что-нибудь подходящее, мисс Линн. Дорогой Артур, помоги ей. Я хочу подчеркнуть святость женского труда в этой стране. Одни, без помощи, можно сказать, матриархально…» бросила она им, в то время как Маркинс принес порцию консервированной пищи, которую она съедала в одиннадцать часов. Флосси поглотила ее и зашагала по комнате, бросая бессвязные слова: «Истинная сфера… великолепное наследие… подходящий компаньон…». Ее позвали к телефону, но она на минуту задержалась в дверях, чтобы произнести: «Начинайте работу, оба. Цитаты, пожалуйста, но не слишком заумные, милый Артур. Что-нибудь свежее, естественное и трогательное». Она помахала рукой и растаяла.
Статья, которую они написали, была откровенной ересью. Они стояли бок о бок у окна и смотрели на плато, бледно-голубое при полуденном солнце.
«Когда я смотрю на это плато, — сказал Артур Рубрик, — я всегда думаю о красоте и равнодушии природы. Мы всего лишь скользим по поверхности нескольких холмов. Ничего нового не происходит. А они — эти холмы — первичны и почти незапятнаны, они такие же бренные создания, как люди и овцы. Они такие же, как до появления человечества».
В ходе этих размышлений и родилась мысль написать о плато в прозе что-нибудь с привкусом великолепной елизаветинской эпохи. «Это звучит патетично, — сказала Теренция, — но для него это было вроде игры. Да это была всего лишь игра».
— Очаровательная игра, — произнес Аллейн. — Что же он написал?
— Пять эссе, которые переписывались неоднократно, но так и не были завершены. Очень часто он плохо себя чувствовал и не мог писать, а когда ему бывало лучше, его энергия расходовалась на поручения Флосси. Нередко он корпел над ее речами и докладами или тащился на встречи и вечера, в то время как ему нужен был покой. Он очень неохотно признавался жене, что ему нездоровится. «Я не хочу огорчать ее, — обычно говорил он, — она такая добрая и заботливая».
— Она и была доброй, — подчеркнула Урсула. — Она бесконечно заботилась о нем.
— Эта забота, — возразил Фабиан, — была какая-то вымученная и покровительственная.
— Я так не думаю. И он не думал.
— Он так не думал, Терри? — спросил Фабиан.
— Он был крайне лоялен. Он говорил только: «С ее стороны это так мило, так заботливо». Но, безусловно, быть объектом такой заботы не слишком приятно. И потом… — Теренция запнулась.
— А что потом, Терри? — поинтересовался Фабиан.
— Ничего. Это все.
— Но это не совсем все, не так ли? Что-то ведь произошло? Что его тревожило в последние две недели до ее смерти? Он был чем-то обеспокоен. Чем именно?
— Он плохо себя чувствовал. Миссис Рубрик была заметно расстроена. Теперь я понимаю, что неприятности с Клиффом и Маркинсом вывели ее из себя. Она ему не рассказала, в этом я уверена, но обронила несколько туманных намеков на неблагодарность и разочарования. Она всегда так делала. Она говорила, что одинока, что другой женщине в ее положении есть к кому обратиться, а у нее никого нет. Он сидел у окна, заслонив глаза ладонью, молча внимая тому, что она говорила. Я готова была ее убить.
Последняя реплика вызвала возмущенное шиканье.
— Банальное преувеличение, — прокомментировал Фабиан. — Я часто сам так говорил о Флосси: «Я готов ее убить». Очевидно, она довольно метко щелкала по носу дядю Артура? Как щелкают орехи, не так ли?
— Да, — откликнулась Теренция, — именно так.