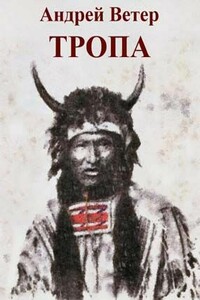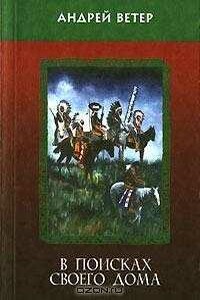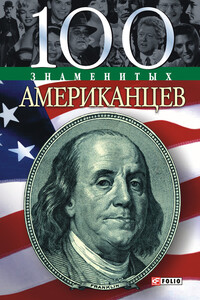Весь этот комплекс запутанных чувств, к сожалению, не привёл меня к его литературе, отделив от меня книги Толстого стеной. Толстой так не стал близок и даже не стал интересен. Он не сделался в моих глазах писателем, хотя написал много. Почему же? Разве это справедливо? Мощнейшая фигура литературы, которую я не только не отрицаю, перед величием которой преклоняюсь, но всё-таки не люблю. Почему…? Быть может, завтра я скажу, что ничего лучше Толстого вообще нет? Возможно… Но не сегодня…
А вот Михаил Булгаков стал для меня писателем величайшим. Его Мастер, живший в подвале и там сочинявший роман и Пилате, стал абсолютным символом того, что есть сочинитель. А настоящий сочинитель живёт только своим творчеством (не существует за счёт творчества, а дышит им); художник полностью погружается в создаваемую им вымышленную реальность, и она становится для него важнее того мира, где он живёт телесно. «Ах, это был золотой век… Совершенно отдельная квартирка, и ещё передняя, и в ней раковина с водой, маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырёх шагах, под забором, сирень, липа и клён. Ах, ах, ах! Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь чёрные ноги и слышал хруст снега под ногами. И в печке у меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стёкла увидел я сперва голые, а затем одевающие в зелень кусты сирени… Пилат летел к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: “…Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат”…»
Восхитительно, удивительно точно… Впрочем, понятно лишь тем, кто знает, что такое быть поглощённым своим трудом. Время мчится, где-то топчется унылая, неинтересная жизнь, люди прозябают в своих мелких проблемах (даже если это проблемы и беды мирового масштаба), а ты не видишь и не слышишь ничего, ты поглощён другой жизнью – единственно-важной и единственной, которая имеет значение. Потом книга подходит к концу, и ты вдруг понемногу, с каким-то удивлением обнаруживаешь себя в другой обстановке. Нет, нет, это привычная обстановка, окружавшая тебя последние полгода, год, полтора, два, но она отсутствовала, пока ты трудился над книгой, она находилась в ином измерении. «Я увидел, во второй, совсем малюсенькой комнате, – гость стал отмеривать руками, – так… вот диван, а напротив другой диван, а между ними столик и на нём прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, тут маленький письменный столик», – написано в «Мастере и Маргарите». И я, в то время ещё не бредивший сочинительством, видел, чувствовал и понимал всё, о чём рассказывает Булгаков. На самом деле, довольно скупо рассказывает. У Михаила Булгакова вообще язык не очень яркий, а если сравнивать с Набоковым, то даже скудный. Но имелось во мне, вероятно, та болезненная точка, в которую безошибочно попало острие булгаковского писательского пера, взрезало и выпустило на свободу дух, ставший моим проводником по жизни.
Хорош писатель или нет, дело не в этом. Важно, живёт ли он здесь, в мире своих знакомых, родственников, друзей, или же он лишь изредка заглядывает сюда, а основное время проводит в другом измерении, где время исчисляется не здешними минутами. Там можно в считанные мгновения прожить годы, а иногда наоборот – часами висеть в одном мгновении, растянув его до состояния вечности, и смаковать, наслаждаться застывшим временем, чтобы из этого состояния вынести, быть может, лишь одно предложение, за которым (будем говорить правду) читатели могут и не увидеть того, что пережил автор. Но художник творит не для того, чтобы передать что-то другим, он создаёт воздух, которым дышит. Если кому-то удаётся передать хотя бы глоток этого воздуха читателю, тот может считать себя гением.
Жизнь Мастера казалась мне самой заманчивой, почти эталонной для художника: существовать в своём подвале, куда не суются посторонние, и превращать этот подвал в канал, через который можно уходить в другие миры. Правда, здесь нужно напомнить, что герой Булгаковского романа смог позволить себе такую жизнь, выиграв сначала сто тысяч рублей. Не каждому выпадает такое везение, поэтому приходится удерживать себя на плаву в здешней суете, чтобы найти минимальные средства для существования. Но об этой стороне дела не думалось, когда я читал «Мастера и Маргариту». Думалось о миру художника. И зависть меня брала, когда я представлял его жизнь.