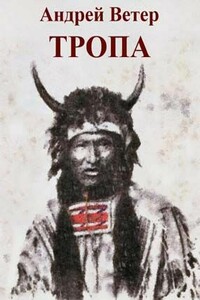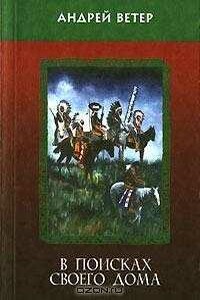Мне стало страшно. Потом я привык постепенно к тому, что я (хоть и невидим большинству) открыт для любого, кто раскрывает мою книгу, и что душа моя превращается для каждого читателя в мишень. А потом я свыкся с тем, что многие любители моих вестернов отказываются в руки брать мои книги о милиции, а любители эзотерики шарахаются от книг про индейцев. Меня приучили быть разъятым на части – вопреки моей воле, вопреки моим усилиям, вопреки разуму. Но мне-то хотелось быть Единым, Большим, Разным. А они хотят только какую-то часть меня. Разве не обидно?
Мне удалось поговорить с десятками тысяч людей – не просто поговорить, а заставить их увидеть то, что я показывал им. Нравятся или не нравятся им мои миры – это другой вопрос, но они их видели. И там они видели меня. Я бы никогда не получил такой возможности, если бы не мои книги. Но мне по-прежнему страшно, когда я думаю о том, что книги мои живут своей жизнью и смешиваются с жизнью других людей.
Мальчишкой я мечтал превращаться в ветер и летать сразу всюду, касаться сразу тысяч лиц, тысяч губ, заглядывать в тысячи глаз. Похоже, я стал ветром, но в ином смысле. Я научился проникать в чужие глаза, чужие сердца. Но я не научился видеть их. Они видят меня, читают меня, но я не вижу их…
Блуждая по забытым закоулкам прошлого, я внезапно наткнулся на событие, о котором давным-давно забыл.
Одна из моих сослуживиц была знакома с Анатолием Павловичем Злобиным, известным советским писателем, и предложила ему подборку моих юношеских опусов. Прочитав их, Злобин решил познакомиться со мной. Ему понравилось! Он заинтересовался! Он пригласил к себе домой. Я пришёл, и мы долго разговаривали. Он восторгался моими зарисовками, которые, как мне казалось, не представляли в действительности ничего особенного. «Губы медленно раздвинулись, изо рта вывалился яркий оранжевый апельсин. За ним появился второй, третий. Они падали изо рта на стол и прыгали друг за другом, как мягкие резиновые мячики…»
– Это же сюрреализм! – восклицал Злобин. – Чудесно! Я постоянно твержу моим студентам, что жизнь сюрреалистична, надо только уметь увидеть это.
Он сделал несколько замечаний, и я до сих пор помню их – настолько они точны и просты.
– Вот вы пишете, что стрелки часов продвигали время вперёд, – говорил Злобин. – А я бы употребил «проталкивали» вместо «продвигали». Улавливаете разницу?
Он не навязывал, не принуждал, не ломал. Только предлагал. И я жадно внимал его словам. А потом он сказал, что готовит сборник молодых авторов, посвящённый Москве.
– Напишите рассказ, наблюдение, размышление, – предложил он. – У вас интересно получится. Мы опубликуем.
Я обещал подумать, но ничего не написал и даже не пытался. В то время я мечтал снимать кино и о литературе, как о профессиональном поприще, не думал вовсе. А какой был шанс! Какая протекция! Дверь сама распахивалась передо мной, однако я не шагнул в неё… Услышав предложение Злобина, надо было вспомнить о «предначертанном» и ухватиться за протянутую мне руку знаменитого писателя. Я не ухватился.
За ошибки приходится расплачиваться.
Через несколько лет страну начала сотрясать перестройка, многое изменилось. Я поступил во ВГИК, работал режиссёром на Российском телевидении и понемногу продолжал мои литературные эксперименты, особенно не мечтая о публикациях. Лишь изредка я ходил по издательствам, робко показывая мой первый роман «В поисках своего дома».
– Вы уже печатались? – слышался всюду один и тот же вопрос.
– Ещё нет.
– Извините, но мы работаем только с публиковавшимися авторами.
– Но вы хотя бы для приличия взгляните на мою книгу.
– Извините…
Многое изменилось после крушения СССР, но только не привычка редакторов давать пинка молодым авторам, только не привычка ядовито улыбаться в лицо…
И всё же в сентябре 2001 года к читателям пришли сразу три моих книги. Я принял это как должное. Не праздновал и, насколько помню, особенно не радовался. Просто случилось то, что должно было случиться – меня стали печатать. О журналах и газетах я уже не думал, никуда себя не предлагал, да и предлагать-то было нечего. Журналистикой не занимался.