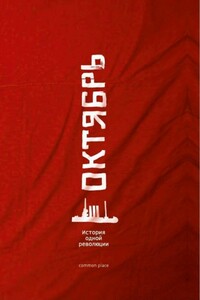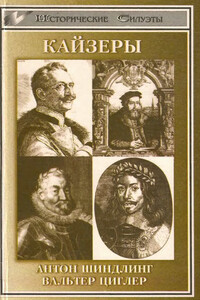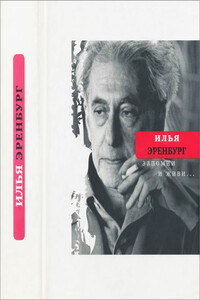Он вошел, поздоровался, осторожно сел на стул. Разговор не клеился. Все мои попытки вызвать Тихона на откровенность не увенчались успехом. И тогда я спросил:
— А помните, дядя Тихон, как мы с вами лобогрейкой подрезали крыло перепелке? Вы перевязали ее и отпустили.
Тихон оживился:
— Как же, Иван Яковлевич, помню. Ведь она — перепелка — слабое создание. Кто ее может защитить? Только человек.
— Ну вот видишь, что получается, — сказал я, — перепелку жалко, а активистам угрожаешь. Бить их собираешься.
Тихон встал во весь свой гигантский рост, замахал руками, как будто на него обрушился рой пчел.
— Да што ты, бог с тобой, да разве ты мене не знаешь? Я никому худого слова никогда не сказал.
— Что же было на самом деле? Садись и рассказывай по порядку.
Тихон немного успокоился.
— Пришли ко мне Окунев и Гулебич. Стали меня и братьев Якова и Игната за колхоз агитировать. Я не супротив, но вот беда — с бабой сладу нету. Скажешь, в колхоз пойдем, а она ревет, как корова, да еще норовит схватить скалку или ухват.
Махнув безнадежно рукой, Тихон добавил:
— Тебе этого не понять, жена-то у тебя, наверно, антилигентная и пользу колхоза понимает…
Я поверил ему. Пришлось поехать в деревню и допросить авторов заявлений. И выяснилось, что они оболгали братьев. Так отпал вопрос о кулацкой сущности Астанковых.
Арестованные были освобождены. Однако я никогда не забуду заключительной беседы с Иваном Александровичем. Когда я доложил ему об итогах следствия, он задал только один вопрос:
— Кулаки?
— Нет, — ответил я, — они никогда не пользовались наемным трудом.
— Твое свидетельство — немаловажный факт, — сказал Писклин, — но тебя ведь к делу не приложишь. Письменно изложи все, что сам знаешь об Астанковых.
Постучав пальцами по столу, Писклин добавил:
— Нужно помнить, что мы живем в такое время, когда идет острая классовая борьба. Пройдет несколько лет, нас с тобой здесь не будет, возможно, найдутся еще ретивые писаки — и снова возникнет следствие. Следователи возьмут из архива дело и увидят, что мы с тобой уже занимались Астанковыми, продержали их под арестом три недели, установили невиновность, и не станут больше привлекать их к ответственности. Так-то, Иван Яковлевич!
Осенью 1942 года меня неожиданно вызвали из Новосибирска в Москву. Поезд шел долго, часто останавливался, пропуская эшелоны с грузами для заводов, переброшенных в Сибирь из центральных районов страны: «Как-то решится моя судьба, где придется работать?..»
На Ярославском вокзале меня встретил сотрудник наркомата и проводил на квартиру, а спустя несколько дней меня вызвали на Лубянку.
— Готовьтесь к заброске в тыл врага. Формируйте отряд, будете прыгать с парашютом, — сказал мне генерал.
Так я оказался в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения.
Сборы были недолгими, а подготовка к тренировочному прыжку ограничилась одним занятием.
— Это парашют ПД-41, — сказал полковник Пожаров. — Скорость падения такая-то, складывать парашют вот так. А приземляться на полусогнутых ногах…
Кто-то стал задавать вопросы, но Пожаров махнул рукой:
— Вам надо иметь крепкие нервы, а дальше за вас сработают карабины подвесной системы. Кто не падает, тот не может подняться, — заключил он.
Именно так мы закончили теоретическую часть. Тренировочным прыжком Пожаров остался доволен.
В СОЕДИНЕНИИ С. А. КОВПАКА
Ночью 26 сентября 1942 года наша оперативно-чекистская группа прибыла в распоряжение партизанского соединения С. А. Ковпака. Нас принял дежурный по штабу Федор Карпенко. Указывая то на одно, то на другое дерево, Карпенко с серьезным видом говорил:
— Здесь для вас, командир, будет спальня, там столовая, а вот там зал для танцев… Что касается солдат, то они сами найдут себе место. Предупреждаю, молодых вдовушек здесь немного и все они давно заняты.
Пришлось ответить в том же духе:
— Благодарю вас за информацию. Завтра в отведенном мне дворце состоится бал. Приглашаю и вас. Будет княгиня Марья, которая обеспечит вам быстрое продвижение по служебной лестнице.
Мы разместились под деревьями, а Карпенко пошел докладывать о нас начальству. Возвратившись из штаба, сказал: