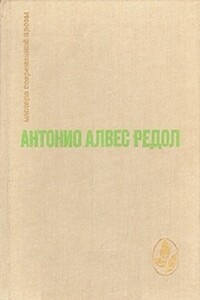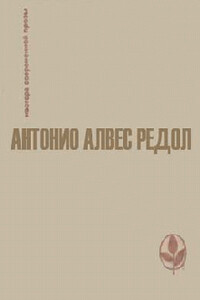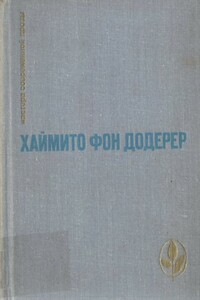Доктор не преминул сказать о парках, прядущих свою пряжу, привел цитату из Вольтера и две из святого Августина и завершил свои рассуждения намеком на дону Антонинью, столь тонким, что лишь немногие его уразумели:
— Господь возлюбил Магдалину, быть может, потому, что много грешила. Никто не посмел бросить в нее камня. А если бы посмел, камни превратились бы в хлеб и розы. Хлеб и розы преподносит «Приют ласточек» этим неоперившимся птенцам, к которым всегда будут обращены наши сердца.
Когда оркестр грянул национальный гимн, слезы градом катились по лицам прихожан.
Оглушенный праздничной суматохой, Проклятый Младенец таращил глаза, лежа в своей кроватке.
ТУННЕЛЬ
— А для меня приют — это каморка с низенькими сводами, мы в ней спали.
Так заговорил Алсидес, растревоженный воспоминаниями детства. Он вызвался заштопать мою единственную рубашку и старался изо всех сил, будто вышивал гладью. Голый по пояс, я сидел на скамейке у окна и вглядывался в кусок безоблачного неба и церковь. Лето было в самом разгаре, мы задыхались от жары.
— Может, эти своды и не были уж такими низкими, как теперь кажется, хотя взрослому не удалось бы, не наклоняясь, пройти под ними, — продолжал он все тем же задумчивым голосом. — Но между потолком и моей головой оставалось чуть больше пяди. Это был туннель. Да, туннель, и я боялся его, как боялся туннеля в Камполиде — по нему шел поезд, когда нас везли в Лиссабон. Теперь-то я понял, что всю жизнь иду по туннелю. И вот он стал совсем узкий, и мне чудится иногда, будто он сейчас на меня обрушится, как галерея в шахте.
Он прекратил шитье и, воткнув иголку в манжет рубашки, бросил ее на стол.
— Вот почему, едва меня выпустят, я поеду с Неной в деревню, а в город больше ни ногой. Я от этого шума сам не свой делаюсь. Так охота посидеть в тенечке, под деревом. Я видел на картинке такое дерево, оно будто небо пронзало. Мне, знаете, нужно отдохнуть. Ведь я не отдыхал с того самого дня, как меня упрятали под эти своды. Человек не может всю жизнь прожить в туннеле, извиваясь ужом. Даже змеи иногда голову поднимают, а мне и это заказано…
Он прислонился к стене и закрыл глаза, словно хотел что-то оживить в памяти.
— Каждый месяц нас строили парами и водили показывать тем сеньорам, что давали деньги на приют, — им это ужасно нравилось. И все меня ласкали; глаза мои их смешили, — что они раскосые, как у китайца. На карнавале меня всегда китайцем наряжали.
Сухожилия на шее у него напряглись, — наверное, и они были полны той горечью, которая искажала его лицо.
— Начальница была злюка и уродина.
— Ну нет, ты не прав, — возразил я. — Дона Бранка была приятная женщина. А если приглядеться получше, даже хорошенькая. У нее были черные глаза…
— Вам, может, она такой и казалась. Но для меня она — злюка и уродина. И другой я ее не представляю. Приют — мой туннель, а эта женщина… Однажды, она так здорово меня отлупила, что я потерял сознание. Уж не помню, что я там натворил, набедокурил, конечно. Но ведь нельзя же избивать за это до полусмерти.
Он устремил застывший взгляд на стену, что была перед ним.
— Вот так-то. Скажи я на суде, что все началось в тот день…
Он порывисто вскочил, опершись на меня, и пальцы его впились в мое плечо.
— Только не поверят они. В суде никогда не верят. Кому, как не вам, это знать. Они до сих пор думают, что вы их за нос водите.
В раздумье он покачал головой и снова уселся около меня, будто по приговору суда.
— С этого и началось. Начальница, ясное дело, не во всем виновата. Никто не бывает виноват во всем, а все в чем-то виноваты. Но о ней я подумал, когда выстрелил первый раз на войне. Я понятия не имел, что меня Проклятым Младенцем зовут, а она возьми и обругай меня так. Помню, я долго плакал. Проклятый Младенец! Почему?! Теперь вы мне рассказали… и я вижу, что не из-за чего было убиваться. Но тогда мне ой как обидно стало. Сколько мне было лет, не помню, шесть или семь. Вроде семь. Но меня уже заставляли мыть пол на кухне. Остальные мною помыкали, а она им потворствовала.
Временами Алсидес замолкал, его душили внезапно пробудившиеся воспоминания. Жара в тесной камере стояла невыносимая, и он дышал медленно и трудно.