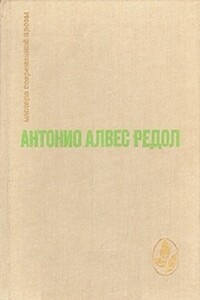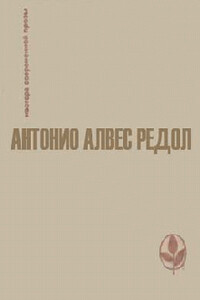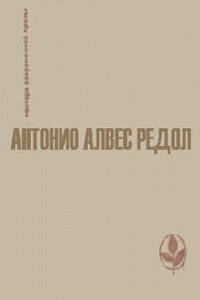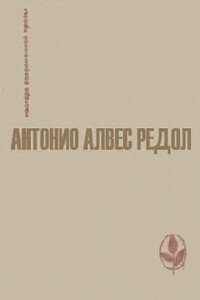Но как бы ни погибали в тылу, а все ж там хоть хоронили честь по чести, и товарищи в последний путь провожали, и офицеры, случалось, доброе слово над гробом говорили… Небось лучше, чем валяться безымянным трупом без башки, откромсанной марокканским ножом. Солдаты наши шутили: мол, с марокканцами воевать — и воротнички стирать незачем.
Вот сейчас припомнилась мне одна история, на сей раз без меня не обошлось. Только что из госпиталя меня выписали, и сидели мы все без табаку. До того озверели без курева — сил нет. И заходим это мы в кафе — хозяином там был один француз; в кафе, как положено, музыка, бильярд, да нам тогда не до развлечений было — только и думали, где бы куревом разжиться. Капрал из нашего взвода подходит к хозяину и просит пачку сигарет, а тот ему — отказ, мол, у нас нету. А сам, мерзавец, курит. Тут наш капрал (мы его Обезьяной звали) хватает хозяина за грудки и тащит из-за стойки. Но тот, знать, тоже был не из робких — и бац капрала бутылкой по голове. Все гражданские, что были в кафе, вступились за хозяина, а у нас положено было товарища в беде нипочем не оставлять, и, понятно, едва капрал крикнул: «Легионеры, ко мне!» — мы кинулись ему на выручку.
Ну, скажу я вам, отменная была потасовка; киями заместо штыков орудовали, шары бильярдные летали, что твои гранаты; столы, стулья — все в ход пошло. А тут подоспела полиция, — с ней у нас давние были счеты, — и драка еще пуще разгорелась. Пианино наши ребята разбили вдребезги, а после и все другие инструменты переломали. Я попробовал поиграть на концертино, и, ей-богу, начало фанданго у меня получилось. Но это уж в конце заварухи было, а до того наши еще стрельбу затеяли, — правда, стреляли в воздух, так что на сей раз никого не укокошили, но зато разбитых голов и рож, разукрашенных ножом, было не счесть.
Не подумайте, однако, что в тылу мы только и делали, что дрались. По женской части наши легионеры тоже не на последнем месте были. И девушки, надо сказать, заметно их другим предпочитали. Еще бы, наши парни мастера были на всякие россказни, а тут еще такая слава про нас ходила, что, мол, смертники мы, — их, понятное дело, жуть брала да жалость, и липли они к нам, что мухи на мед. Была в Рабате даже одна знатная дамочка, графиня, большая охотница до нашего брата легионера. Высмотрит, бывало, себе парня и подсылает к нему слугу. Я-то сам зван к ней не был — рожей, знать, не вышел, но ребята рассказывали, что отменно, мол, все обставлено. Вино — первый сорт, английские сигареты, а про постель и говорить нечего: вся в кружевах, и повсюду шелк и бархат, а на полу везде ковры, и даже солдатам велено было домашние туфли обувать, чтоб, значит, ковры не запачкать. Говорили даже, будто и на стенах у нее кругом ковры, но только сдается мне, что это враки: не полоумная же она, в самом деле, хоть и шлюха.
У графини я не бывал — не про нашу честь такие приключения, но подружку себе завел — сиделкой она работала. Говорила, что из Швейцарии она, швейцарка, значит. У нас с ней любовь была, а не то чтоб просто так, от нечего делать. В свободный день я дожидался ее, и мы шли к морю, до самой ночи. Она сильно море любила и целоваться со мной любила, а только больше ничего мне не позволяла, — я так думаю, жених у нее был там, в Швейцарии. Волосы у нее были что спелая пшеница, косы длиннющие — распустить их, так ее всю до пят волосами бы покрыло, и она говорила мне «мой дорогой», я ее выучил говорить по-португальски «мой дорогой», а она «р» не выговаривала, и так забавно у нее выходило. Табаком она меня снабжала вволю и подарила мне синюю ручку, потом ее у меня украли, когда ранен я был во второй раз. Тот же поляк у меня и часы украл, я вам уж про это рассказывал.
Ручку-то мне больно жаль, я другой такой больше не видел, — не то чтоб она дорогая была, а все ж память… Пригодилась бы теперь письма Нене писать; да что поделаешь: была да сплыла. А только нет-нет и вспомню свою швейцарочку: хорошая она была девушка, чистая, нежная…
В тылу, конечно, свои выгоды: спишь спокойно, опять же девушки вокруг тебя вьются. И пивка можно выпить, и мариско