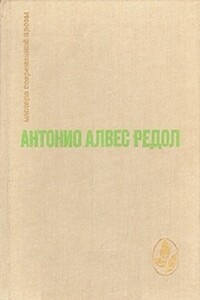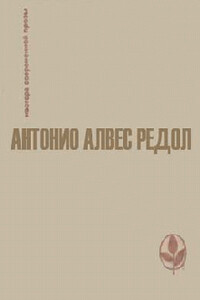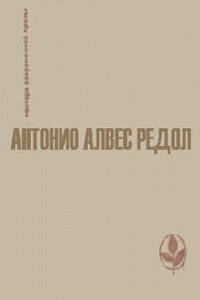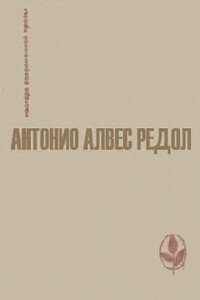— Держитесь, держитесь, товарищи! — кричали с плотины, и голоса их захлебывались слезами.
Бык подо мной вдруг весь обмяк и начал уходить под воду, а я в отчаянии стал молотить его по спине кулаками, словно это могло его оживить. Но он только бился в предсмертных корчах и жалобно мычал. Со стороны Альяндры послышалось ответное жалобное мычание. Бык задрал голову — высоко, как только мог, аж рогами до спины достал, рванулся — я схватил его за рога, чтоб помочь ему, и вдруг почувствовал, как бока его холодеют, он слабнет все больше и уходит вместе со мной в черную глубь. Закричал я тогда, первый раз за все время. Закричал, но голос мой оборвался, горло мне сдавило, я хотел что-то сказать быку, подбодрить его, но не мог выдавить из себя ни звука.
И вдруг — сам даже не понимаю, как мне это в голову пришло, — вытащил я нож и давай колоть им быка. Его горячая кровь потекла по моим онемелым рукам, она согревала меня, горячая, как сама жизнь, но бык издыхал: у него уже не было сил бороться со смертью.
— Держитесь, товарищи!
И снова крики, стоны. Голоса умоляли, плакали и замолкали…
Бык все ниже кренился мордой к воде, кренился и мычал, потом вдруг взревел и, осев, поволок меня за собой в глубину. В эту самую минуту тело какого-то утопленника ударило меня по ногам, я забарахтался, задвигал руками, поплыл, поплыл и наконец уцепился за сваю.
С дамбы донесся чей-то голос:
— Из Кайса должны прибыть баркасы — не могут же нас бросить так, без помощи. Видно, Тежо не дает им сюда пробиться.
А вода все поднималась и поднималась. Ветер с Палмелы, злосчастный ветер, все не затихал, и море гнало и гнало вспять воды Тежо.
Тяжко все это вспоминать, сеньор, но хоть я и притомился, а все же хочу вам досказать до конца.
Коченеть мы уже начали. Это была смерть. У меня на глазах умер Брюзга. Умирая, он схватил меня за руку и что-то забормотал, — теперь и не вспомню, что он мне говорил, где там было запоминать. Все смешалось тогда: люди и быки, мертвые и живые. И по сию пору не пойму, как я жив остался. Ничего дальше не помню. На другой день очнулся я уже в Кайсе вместе с другими живыми. И Карлос Арренега, по счастью, среди них отыскался. Мертвых тоже на том же баркасе привезли. Кто-то всучил нам деньги — а мы тогда даже и не понимали, зачем они нам.
Все, что у меня было, — все под водой осталось. И радость жизни, какая еще во мне была, она тоже там утонула. Черная тоска легла мне на сердце и весь белый свет черной пеленой закрыла. Взял я гармонику свою и кинул в Тежо. И ни разу в жизни больше ни одна гармоника не пела у меня в руках. Я ненавидел теперь эту проклятую реку, а ведь как я любил ее прежде… Утешала она меня и мечтанья всякие во мне будила. Но все они погибли в ту ночь.
Глава тринадцатая
Последний галоп
С тех пор никто не звал меня Белой Лошадью. Это прозвище погибло вместе со всей моей прежней жизнью. Почему, почему никто не поверил мне, когда я говорил, что всех нас ждет беда, что белая лошадь шутить не любит и, уж коли распустила она свою гриву, — бури не миновать. И не миновать смерти.
— Нет, такой работой кормиться себе дороже, — объявил я Карлосу Арренеге, едва язык мой снова заворочался. — Ни за что больше за это не возьмусь, пусть хоть весь свет провалится в тартарары.
Прежняя ярость снова во мне закипела.
— Уйду я отсюда, насовсем уйду. Куда-нибудь на юг подамся, ну хоть в Алентежо.
— Можно еще сбежать в Марокко или в Испанию.
— А что, давай вместе, а?
Карлос не возражал: его все одно в солдаты упекут, а ему до смерти неохота ломать свои кости в Форте-Элвас.
Этой же ночью переправились мы через Тежо и двинулись в путь-дорогу. Долго мы проблуждали, прежде чем добрались до Ольяна[15]. Отсюда до Марокко нужно было плыть морем.
И тут Карлос заколебался. Обратно его вдруг потянуло. Уж я его срамил, срамил, и не то чтоб я хотел силком его за собой тащить, а больше из-за того, что и сам не прочь был повернуть назад. «А вместе, — думал я, — мы непременно доберемся, куда задумали».