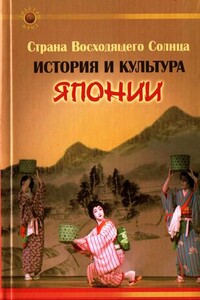Ты не имеешь права сказать, Левочка, мы и нас. Тебя они любят, я, конечно, посерьезнее и побольше их связываю. Я не из того общества, к которому они привыкли; новостей рассказать не могу, рассуждения мои надоели, да и мои советы в тягость; мои речи наводят скуку».
Услышав о нездоровье сына Николиньки, Анна Николаевна хочет к нему в полк — «да он меня не желает». Зато когда Мишиньку, воевавшего на Кавказе, обошли наградой, из деревни в город, к мужу, несется решительное: «не грусти, а действуй! действуй на Орлова, Аргутинского, Воронцова и даже государя». «За себя хлопотать нельзя, но за сына, это твоя обязанность, тем более, что ты имеешь на то все средства. Я Мише не отдам Власова, чтоб он его в карты не проиграл, а за отличное его мужество горой постою и не отстану от тебя, пока ты не раскричишься за него во все горло так, чтобы на Кавказе услышали твой крик за Мишу и отдали бы ему полную справедливость».
Между тем еще более пожилой адресат письма, многолетний начальник тайной полиции, видно, все чаще жалуется на свои хворости, а из утешений его супруги мы вдруг узнаем о режиме и образе жизни человека, отвечающего за внутреннюю безопасность страны:
«Мне не нравится, что тебе всякий раз делают клестир. Это средство не натуральное, и я слыхала, что кто часто употребляет его, не долговечен; а ведь тебе надо жить 10 тысяч лет. Берс>[30] говорил Николиньке, что у тебя делается боль в животе от сидячей жизни. В этом я отнюдь не согласная. Какая же сидячая жизнь, когда ты всякой день съездишь к графу с Захарьевской к Красному мосту — раз, а иногда и два раза в день; почти всякий вечер бываешь где-нибудь и проводишь время в разговорах, смеешься, следовательно, твоя кровь имеет должное обращение. Выезжать еще больше нельзя; в твои лета оно было бы утомительно. — Летом ты через день бываешь в Стрельне… а в городе очень часто ходишь пешком в канцелярию».
Супруги не видятся по нескольку лет: генерала не пускает служба, помещицу — нездоровье и хозяйство. За Дубельтом присматривает родственница, и жена не очень довольна:
«Мне обидно, будто ты без сестры не можешь обойтись три недели, когда без меня обходишься пять лет… А то ведь я так серьезно приревную, — знаешь, по-старинному, когда я ревновала тебя в старые годы, — даром, что мне теперь за 50 лет».
Судя по письмам, генерал не касался в них своих театральных пристрастий. Между тем из многих воспоминаний известно, что он был «почетным гражданином кулис», куда ввел его один из лучших друзей, Александр Гедеонов, печально знаменитый директор императорских театров. Интерес генерала к актрисам, разумеется, преувеличивался современниками — все та же «социальная репутация», но весьма правдоподобен портрет Дубельта в воспоминаниях актера Г. М. Максимова (полное название которых «Свет и тени петербургской драматической труппы за прошедшие тридцать лет. 1846–1876»). Брат автора, актер Алексей Максимов, однажды услышал от своей молодой супруги, балерины, что ее при всех оскорбил Леонтий Васильевич, назвав фамильярно «Натальей». Муж возмутился, и Дубельт при встрече отвел его в сторону: «Любезнейший Алексей Михайлович, нам нужно объясниться по поводу одного недоразумения. Вы считаете меня виновным в оскорблении вашей жены, за что хотите требовать „удовлетворения“… Прежде всего, я удивляюсь, что вы могли считать меня способным на оскорбление или на невежливое обращение с женщиной. Я надеялся, что, зная меня давно, вы могли иметь обо мне иное мнение. Что же касается до „удовлетворения“, то, любезнейший мой, я уже стар для этого… Да и притом (добавил он улыбаясь), как шефу жандармов>[31], мне это не совсем прилично: моя обязанность и других не допускать до подобных „удовлетворений“».
Сконфуженный Алексей Михайлович стал уверять, что не удовлетворения хотел он требовать, но объяснения, по какому праву Леонтий Васильевич так фамильярно обходится с его женою, называя ее «Натальей».
На это Леонтий Васильевич сказал, улыбаясь: «Я понимаю ваше положение; вы чересчур разгорячились и наговорили много кой-чего, чего бы вовсе не следовало… Верьте, что мне сообщено все, до последнего слова в точности, и знаете что? — прибавил он, положа обе руки на плечи Алексея Михайловича, — примите добрый совет старика: будьте повоздержаннее на выражения даже в кругу товарищей. Что касается оскорбления вашей жены, то его никогда не было и не может быть с моей стороны. Жена ваша ошиблась — не дослышала. Всему причиной наша вольная манера: говоря, делать ударение на начале фразы и съедать окончание. Дело было так: я стоял на одной стороне сцены, а жена ваша — на другой; я, желая с ней поздороваться, окликнул ее следующим образом: „Наталья Сергеевна!“» — причем Леонтий Васильевич произнес «Наталья» громко, а «Сергеевна» гораздо тише, так что на таком расстоянии, как сцена Большого театра, нельзя было слышать… Итак, дело кончилось миром, при заключении которого Леонтий Васильевич сказал: «Но все-таки считаю своим долгом извиниться перед вашей женой и перед вами, что, хотя неумышленно, был причиной вашего огорчения».

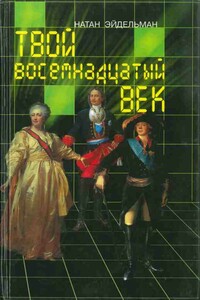

![Пути в незнаемое [Писатели рассказывают о науке]](/uploads/books/images/9e/9e129588ec32cbc9a2b05de53313a818daf90505.jpg)