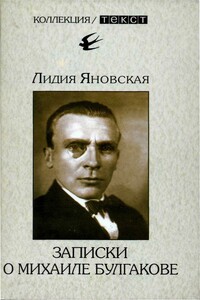Образы Саардамского Плотника и рояля с раскрытой партитурой «вечного Фауста» остались в романе. Но были образы этого ряда, с которыми Булгаков расстаться не пожелал и, трансформировав их для произведения другого жанра, перенес из романа в драму.
Когда в романе доктор Турбин спешит в свой дивизион, навстречу ему по Владимирской, над толпой, движутся гробы: «Прапорщик Юцевич», «Прапорщик Иванов», «Прапорщик Орлов»… «Офицеров, что порезали в Попелюхе, — торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос, — выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто…» Именно после этой встречи, непосредственно после нее, попадает Турбин на закрытый плац своей старой гимназии и сердце его «защемило почему-то от страха». Надо думать, эти гробы Булгаков ввел не только как подробность гражданской войны, но и как предзнаменование.
Они возникают и в первой редакции пьесы — уже не конкретной картиной, а отголоском ее. Мышлаевский, в вестибюле Александровской гимназии: «Сегодня утром гробы с убитыми офицерами проносили как раз мимо гимназии. Дивизион в это время был на плацу и видел. Студентики смутились. На них дурно влияет. (Пауза.)».
В окончательной редакции даже этот отголосок конкретной картины драматург снял. А символ, предзнаменование сохранил — в словах Алексея, на этот раз полковника Алексея Турбина: «Дали полковнику Турбину дивизион: лети, спеши, формируй, ступай, Петлюра идет!.. Отлично-с! А вот глянул я вчера на них и даю вам слово чести — в первый раз дрогнуло мое сердце… Дрогнуло, потому что на сто юнкеров — сто двадцать студентов, и держат они винтовку, как лопату. И вот вчера на плацу… Снег идет, туман вдали… Померещился мне, знаете ли, гроб…»
Или вот другой образ из романа «Белая гвардия». Первый вечер в романе. Самовар, крахмальная скатерть, цветы. Но Мышлаевского еще нет, нет еще Шервинского, и Тальберг где-то пропал. «Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер». Перед Еленой остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». «Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «…мрак, океан, вьюгу». Не читает Елена».
Зачем Булгакову в этом месте Иван Бунин с его рассказом «Господин из Сан-Франциско»? По-видимому, вот из-за этих слов: «…мрак, океан, вьюгу». Музыкальная фраза. Образ, передающий атмосферу отчаяния и неизбежности.
В пьесе писатель бережно сохранит этот образ, упрочит его, хотя ссылки на рассказ Бунина уже не будет: «Елена. Я видела дурной сон… Нет, нет, мой сон — вещий. Будто мы все ехали на корабле в Америку и сидим в трюме. И вот шторм. Ветер воет. Холодно-холодно. Волны. А мы в трюме. Вода поднимается к самым ногам…» И в предыдущей картине, в ответ на реплику Николки о Тальберге («Алеша, ты знаешь, я заметил, что он на крысу похож»), Алексей отвечает: «Совершенно верно, Никол. А дом наш — на корабль». Этот «корабль» — уже перенесший шторм, уже входящий в гавань — еще раз возникнет в конце пьесы, в речи Лариона: «Я пережил жизненную драму… И мой утлый корабль долго трепало по волнам гражданской войны…» — «Как хорошо про корабль», — скажет Мышлаевский. «— Да, корабль…»
Вот таким образом-символом, с которым расстаться Булгаков не пожелал и для сохранения которого сдвинул историческое время, была елка.
В романе елка появляется на самых первых страницах: «Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях». И так: «белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?» Елка была здесь символом счастья и радости бытия. В романе она отнесена в прошлое. Во времени действия романа елки фактически нет, хотя она смутно упоминается, датируя время и тоже печальной памятью об ушедшем: «Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня рождества. …пахло хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами…»