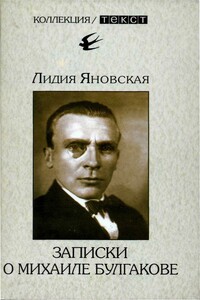Картина «В петлюровском штабе», написанная тогда же, прямых аналогий с романом «Белая гвардия» не имела совсем. Она перекликалась скорее с ранней прозой писателя, с рассказами «Я убил» и «Налет» и особенно с отрывком «В ночь на третье число» из неосуществившегося романа «Алый мах».
«…В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренной, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.
— Скидай, скидай, зануда, — говорил он.
На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз» («В ночь на третье число»).
«— Я не дезертир. Змилуйтесь, пан сотник! Я до лазарету пробырався. У меня ноги поморожены зовсим…
— Ноги поморожены?.. Знаем вас, сечевиков… Скидай сапоги, скидай. И если ты не поморозив ноги, а брешешь, то я тебя тут же расстреляю. Хлопцы! Фонарь!» («Дни Турбиных»)
Можно так же подробно и далее сравнивать текст прозаический, текст ранний с более поздним сценическим текстом, прослеживая, как формируется, складывается очень похожий, но все-таки совсем другой образ в драме. В прозе сечевик был действительно дезертир, один из толпы дезертиров-сечевиков, теснимых отборными петлюровцами в черных «халатах» («Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной… Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгинули в загадочной Слободке… Новая толпа дезертиров сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренной, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули…»). И намертво обмороженная нога в прозаическом отрывке спасала сечевику жизнь («…Торчала совершенно замороженная белая, корявая ступня. Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы. «До лазарету. Пропустить його!» Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце»).
В драме допрашивает сечевика не командир (командир здесь Болботун), а сотник Галаньба — «холоден, черен, с черным шлыком», — специалист своего страшного дела, и, убедившись, что дезертир действительно «поморожен», приказывает: «Взять его под арест! И под арестом до лазарету! Як ему ликарь ногу перевяжет, вернуть его сюды в штаб и дать ему пятнадцать шомполив, щоб вин знав, як без документов бегать с своего полку».
Другой эпизод этой картины — драматургически блистательная сцена ограбления ремесленника — вообще не имеет аналогий в прозе Булгакова. Впрочем, ранняя его проза нам известна не вся…
В первой редакции пьесы картина «В петлюровском штабе» имела композиционное обрамление: она представала как кошмарный сон, который снится Алексею. Персонифицированный «кошмар» в клетчатых рейтузах и сапогах с желтыми отворотами (он так и назывался в перечне действующих лиц: «Кошмар с желтыми отворотами») приходил к Турбину во сне, кричал: «Доктор, не размышляйте, снимите погоны!» Алексей пытался возражать, и тогда его спальня исчезала и возникала эта картина…
Впоследствии, в процессе мхатовской постановки, обрамление отпало, исчезли атрибуты «сна». Но картина все равно проходит перед зрителями как страшный, жестокий сон. Вместе с фантасмагорическим сном «Кабинет гетмана» — предвестие «восьми снов» «Бега».
Место этих двух картин в тугой структуре уже законченной драмы чрезвычайно значительно, и, надо думать, столь тщательная разработка их на раннем этапе, на фоне еще сырой пьесы, случайностью не была: эти картины, так далеко выходящие за пределы дома Турбиных и как будто даже не связанные (почти не связанные) с турбинским домом, тем не менее определяли развитие действия, поступки героев и нашу оценку этих поступков, они определяли движение пьесы к кульминации, последующие сцены в гимназии, монолог: «…Я вас не поведу, потому что в балагане я не участвую, тем более что за этот балаган заплатите своею кровью и совершенно бессмысленно вы все!» — принадлежавший в первой редакции полковнику Малышеву, а в окончательной — полковнику Турбину, и подготавливали последние слова на ступенях лестницы, в первой редакции произнесенные Най-Турсом, а в окончательной — Алексеем Турбиным: «Унтер-офицер Турбин, брось геройство к чертям!»