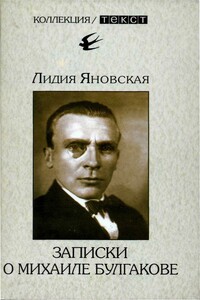Что-то такое в жизни Булгакова было. Хотя… Ранен он не был. И женщины такой в его биографии, кажется, не было… Мало-Провальная, впрочем, была. Она называлась и теперь называется Мало-Подвальная. И калитку в стене, и многоярусный, белый, загадочный сад (увы, не сохранившийся, там многократно строили, перестраивали, равняли, так что холм почти разрушен) очень хорошо знал. В этом месте — в одном из прелестнейших мест старого Киева, в нижнем ярусе таинственного сада — на Мало-Подвальной, 13 (согласитесь, Булгаков не мог сохранить этот номер дома в романе, это выглядело бы слишком нарочито: Андреевский спуск, 13, Мало-Подвальная, 13), жил друг детства — Коля Сынгаевский, Николай Николаевич Сынгаевский, столь пронзительно похожий и внешне, и некоторыми фактами своей биографии на Виктора Викторовича Мышлаевского, по крайней мере как он написан в романе и в первой редакции пьесы «Дни Турбиных»…
А вот и другое булгаковское изображение этого дня — в иронических, даже гротескных и все-таки в значительной степени автобиографических «Необыкновенных приключениях доктора», написанных до «Белой гвардии» и впервые опубликованных в 1922 году. Может быть, оно ближе к тому, что было?
«Меня мобилизовала пятая по счету власть…
Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился… К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это — «ихние». На западной пулеметы — «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут»…
«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть… Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:
— Держи его! Держи!
Я оглянулся — кого это?
Оказывается — меня!
Тут только я сообразил, что надо было делать, — просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор.
Те кричат:
— Стой!
Но как я ни неопытен во всех этих войнах, я понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах!
И вот откуда-то злобный взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с иодом (200 г). Великолепный германский иод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой…»
Впрочем, кто знает, может быть, и это освещение событий украшено не только иронией, но и великолепной булгаковской фантазией… Во всяком случае, отношение писателя к гетманщине («пятой власти») и к мобилизации своей в «добровольческие» войска («какая, к черту, она моя!!») заслуживает внимания…
В городе установилась петлюровщина. «Хуже нее ничего на свете не может быть», — сказано в «Необыкновенных приключениях доктора». Было тягостно, гнусно и непонятно. Занявшие город петлюровцы рыскали по дворам, высаживали двери — искали офицеров, ночью же на Владимирской горке воровски и подло расстреливали большевиков.
Театры опустели. С наступлением ранних зимних сумерек на улицах грабежи. А частный прием врача — двери, открытые настежь…
…Показывая Татьяне Николаевне страницы этой рукописи, я спросила, правильно ли я написала: «Двери, открытые настежь»? Она сказала: «Это так и было». Раздавался стук или звонок. Она шла открывать. «К врачу», — говорил незнакомый человек, и его впускали. Приходили проститутки. Кто только не приходил…
«И такие приходили тоже», — говорит Татьяна Николаевна, перед ней лежит сделанная мною выписка из романа «Белая гвардия», вот эта: «В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа… На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал набок. Второй — гигант, занял почти до потолка переднюю Василисы… Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноеточащей коростой, и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными, позеленевшими пуговицами…» И кто-то из них был вооружен. И чьи-то глаза злобно ощупывали вешалку в передней, потом кабинет и самую фигуру врача…