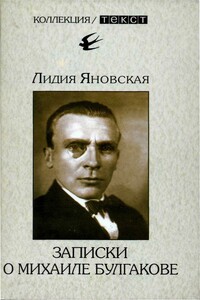Елене Сергеевне Булгаков делал подарки, глубоко волновавшие ее: он дарил ей свои автографы, свои рукописи. Их она берегла свято и благоговейно. С тех пор — всегда. Существующий ныне архив писателя Михаила Булгакова (разделенный между Пушкинским Домом в Ленинграде и Библиотекой имени Ленина в Москве, но тем не менее цельный) фактически делится на три периода — на три, увы, неравные части. До 1929 года сохранилось мизерно мало. С 1929-го — значительно больше. С 1932 года, когда Елена Сергеевна стала женой писателя, сохранилось почти все: рукописи, черновики, варианты, деловые бумаги, письма…
Прошло три с половиной года, прежде чем им стало ясно, что жить друг без друга они не могут, что они любят друг друга и что это навсегда. Впоследствии Елене Сергеевне было жаль этих трех с половиной лет, как бы выключенных из ее с Булгаковым двойной биографии. Когда я спросила ее (в одну из самых первых наших встреч), когда она вышла замуж за Булгакова, она ответила так: «Мы вместе с 1929 года».
Они поженились в октябре 1932 года. Поселились на Большой Пироговской, в его старой и уже ненавистной ему квартире, — в ожидании, когда будет надстроен кооперативный писательский дом в Нащокинском переулке (улица Фурманова, дом 3). И только в начале 1934 года переехали наконец в эту свою квартиру, последнюю квартиру Булгакова. Младший сын Елены Сергеевны Сережа жил теперь с ними.
Булгаков уже был болен. 1929 год, который в повести «Тайному другу» он назвал «годом катастрофы», оставил свои жестокие следы: писателя изнуряли головные боли и сердечные приступы, потом к ним присоединились страх смерти и страх пространства, в середине 30-х годов Елена Сергеевна старается не отпускать его из дому одного. Все это в медицине имеет название: тяжелый невроз. И наследственная его болезнь — гипертония в почечной форме, унесшая его отца в далеко не преклонном возрасте, — вероятно, уже давала себя знать, еще не сознанная, не названная.
Но Булгаков был счастлив в эти годы. И на фотографиях его видно, что он счастлив. Счастлив, несмотря ни на что. Счастлив вопреки всему. С. Ермолинский, в этом доме бывавший часто, пишет: «Дом их, словно назло всем враждебным стихиям, снял счастьем. А были, пожалуй, одни лишь долги при довольно туманном будущем».[123]
Елена Сергеевна была одержима мыслью вылечить его. Булгаков писал брату в январе 1933 года: «Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это ни в какой мере не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее». (В романе «Мастер и Маргарита», в котором так часто солнечными зайчиками вспыхивают ее интонации, кажется, запечатлены ее слова, а может быть, и жест: «Я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб. «Я тебя вылечу, вылечу», — бормотала она, впиваясь мне в плечи…»)
Она храбро взяла на себя ведение его дел. Булгаков писал брату в сентябре 1933 года: «Я счастлив тем, что Елена взяла на себя всю деловую сторону по поводу моих пьес и этим разгрузила меня. Я выдал ей нотариальную доверенность на ведение дел по поводу моих произведений. В случае если бы она писала тебе вместо меня, прошу ее сообщения договорные или же гонорарные принимать как мои». На первых порах у нее это не очень-то хорошо получалось. Но эта ее деятельность чрезвычайно нравилась обоим.
Она по-прежнему с радостной готовностью писала под его диктовку пером или на машинке; она обожала его сочинения и умела безудержно хохотать, слушая его устные рассказы — его бесконечно варьирующиеся, непредсказуемые, блещущие фантасмагорической выдумкой и, увы, невосстановимые рассказы-импровизации. С течением времени на дне этих рассказов, как бы на втором плане их, все более накапливалась горечь. Елена Сергеевна звонко смеялась, а в глазах у нее стояли слезы…
Она верила в его гений, и, наверно, это было важно, когда пьесы снимались со сцены и проза укладывалась в «красный шифоньер» и круг друзей становился все уже… «Он классик, он давно классик!» — страстно и яростно говорила мне Елена Сергеевна в начале 60-х годов, когда звезда признания Булгакова едва начала всходить. И что-то в этом духе она говорила ему всегда. Мне слышится ее интонация в пьесе «Адам и Ева», в том месте пьесы, где Ева говорит о Ефросимове: «Он гений!» — и Ефросимову: «Ты гений…» И за строками романа «Мастер и Маргарита»: «Она сулила славу, она подгоняла его…» — тоже просвечивает ее образ.