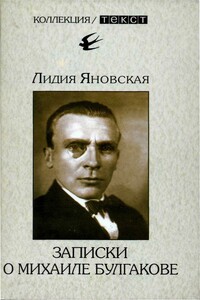Творческий путь Михаила Булгакова - страница 107
Правда, в театре еще надеялись, что история с «Мольером» как-нибудь утрясется. Может быть, автор все-таки перепишет пьесу. Вложит в руку Мольера гусиное перо, а в уста его — строки его сочинений. Режиссер H. М. Горчаков, например, не сомневался, что этим кончится. Куда же деваться автору?
В последних числах мая Елена Сергеевна увезла мужа на две недели в Киев — подальше от треволнений. Позже, на август, хотя с средствами было очень туго, — в Синоп, возле Сухуми.
Уйти от треволнений не удавалось. Возвращаясь из Киева, в поезде, купили номер журнала «Театр и драматургия». В передовой «Мольер» был назван низкопробной фальшивкой. В Синопе отдыхали мхатовцы — П. Марков, Н. Горчаков и другие. Упоенный разгромом драматурга и ощущением своего права, Горчаков принялся давать Булгакову «установки». Прежде всего в отношении «Мольера», разумеется. А затем и по поводу перевода «Виндзорских кумушек», над которым Булгаков по договору с МХАТом начал работать здесь, в Синопе.
По-видимому, это и было последней каплей.
Напрасно П. Марков уверял Булгакова, что театр может охранить этот перевод от посягательств Горчакова. «Все это вранье, — с горечью сказал Булгаков. — Ни от чего Театр меня охранить не может». Бросил работу, уехал с женой в Тифлис. Оттуда — во Владикавказ. Когда вернулись в Москву, все было продумано им и решено. Он не станет переделывать «Мольера» («запятой не переставлю»). В сентябре подал заявление в МХАТ о том, что не будет делать для театра уже начатый перевод «Виндзорских кумушек» и просит расторгнуть соответствующий договор. И от штатной должности режиссера просит его освободить. «Мне было слишком тяжело работать там после гибели «Мольера», — напишет Булгаков брату несколько месяцев спустя.
Он принял предложенную ему в Большом театре должность либреттиста. Это не была синекура, нужно было писать оперные либретто, и Булгаков напишет их четыре — «Минин и Пожарский», «Петр Великий», «Черное море» (о Фрунзе и гражданской войне), «Рашель» (по новелле Мопассана «Мадемуазель Фифи»). И в подготовке оперных спектаклей нужно было участвовать. Но все-таки это была должность, прибежище («Я не могу оставаться в «безвоздушном пространстве», — говорил Булгаков, — мне нужна окружающая среда, лучше всего — театральная»). Теперь снова можно было писать. И Булгаков пишет…
В ноябре того же 1936 года он извлекает старую, датированную 1929 годом тетрадь с крупно выписанным заголовком-посвящением «Тайному другу» и записанными далее подряд вариантами названия: «Дионисовы мастера», «Алтарь Диониса», «Сцена», «Трагедия машет мантией мишурной». Это тетрадь обольстительно-иронической автобиографической прозы Булгакова, замысел романа о театре (из праздников в честь бога Диониса у древних родился театр; строка о трагедии, которая «машет мантией мишурной», — из любимого Булгаковым Пушкина, из восьмой главы «Онегина», где речь идет о театре). Но до театра ироническая исповедь автора в этой тетради так и не дошла: в ней описана история и первая публикация романа — романа о гражданской войне, который ляжет в основу пьесы.
Теперь эти главы, предвещающие рождение пьесы и рождение спектакля, Булгаков пересказывает с гибкой, волшебной краткостью и почти сразу же в действие вводит Театр… Булгаков пишет «Театральный роман». Пишет легко, стремительно, почти не правя. Через два-три месяца Елена Сергеевна отметит: «М. А. пишет с увлечением эту вещь. Слушали уже отрывки…»
Под его пером раскрывался мир творчества — творчества вообще и творчества драматургического с его соблазном, яростью и болью. Сюжетная канва оставалась той же, что и в давних записках «Тайному другу», — первый роман и приглашение романиста в знаменитый театр; в ее основе лежала история «Дней Турбиных», использованная очень близко к реальной биографии драматурга. Но горечь и боль шли от событий другого ряда — от очень свежих для писателя событий, связанных с судьбой «Мольера»… Разновременные в реальности впечатления и ситуации смешивались и совмещались. И складывался портрет Театра — обольстительный, фантасмагорический, обобщенный. Сатирический гимн театру. Впечатления первого прикосновения к колдовству сцены, ошеломляющий юмор встречи с неожиданным, и горечь разочарований, и печаль утраты. Два воплощения страсти драматурга — пьеса и театр, пьеса, написанная для театра, и театр, едва не загубивший пьесу, — скрещивались в единстве и противоречии. И на образ таинственного владыки мира театра — властного старика с живыми глазами, гениального актера Ивана Васильевича — ложился отблеск могущества, противопоставленного творчеству.