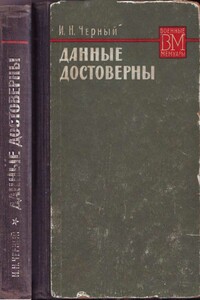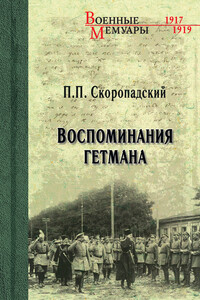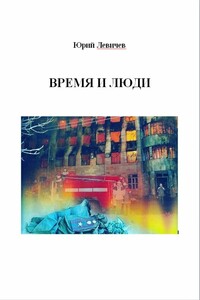Тем временем между боями наступила передышка. Противник приводил себя в порядок, подтягивал резервы и переправочные средства. Не было сомнения в том, что в скором времени он предпримет новую попытку захватить северную часть Смоленска. И каждый из нас был озабочен: чем и как оборонять ее, какими силами парировать неизбежные удары противника? Снимать войска с других боевых участков? Такое исключено. Значит, оставить город? Но ведь есть приказ Государственного Комитета Обороны о том, чтобы за Смоленск драться до последнего. В этом приказе четко сказано: без специального разрешения Ставки Смоленск врагу не сдавать. Так что же делать?
Пока Лукин, Шалин, Лобачев ломали головы над неразрешимым, казалось бы, вопросом, на командном пункте появился незнакомый генерал. Был он высок, строен, подтянут. Четко доложил:
— Генерал-майор Городнянский, командир 129-й стрелковой дивизии!
Командарм удивленно поглядел на Л. М. Городнянского: такой, мол, фамилии что-то не припомню. А тот продолжал доклад:
— Отхожу из-под Витебска. Прошу принять в оперативное подчинение вверенной вам 16-й армии!
— Охотно принимаю, — оживился Лукин, но тут же невесело усмехнулся: — Генерал без войска?
Авксентий Михайлович чуть повел плечами:
— Почему же без войска?
— А где оно?
— Вон в том лесочке. Два стрелковых полка и два полка артиллерии. Правда, потрепаны, но, полагаю, вполне боеспособны.
— Вот как! — теперь уж не скрывая радости, воскликнул Лукин.
Городнянский сообщил, что его дивизия входила в 19-ю армию, соединения которой отступают. В заключение сказал:
— Я вывел свои полки к Смоленску и надеюсь, что при защите города они сыграют надлежащую роль.
Мы воспрянули духом. В той обстановке получить дивизию, пусть и неполного состава, ослабленную, было поистине чудом. Ей тут же, не теряя времени, командарм поставил боевую задачу: оборонять центр северной части Смоленска. И когда 17 июля противник попробовал форсировать Днепр и ворваться в эти кварталы города, то получил решительный отпор.
В последующем, с 18 по 22 июля, фашисты неоднократно пытались занять северную часть Смоленска, но всякий раз отбрасывались назад. Более того, 16-я армия сама довела атаки с целью отбить у врага южные районы города. Однако у нее не хватило для этого сил и средств, особенно артиллерии. Правда, позднее в армию вошли 127-я и 158-я стрелковые дивизии 34-го стрелкового корпуса 19-й армии, но они имели менее трети штатного состава. Гитлеровцы же сосредоточили на смоленском направлении три танковые дивизии — 7, 17 и 18-ю, части танковой дивизии СС «Рейх» и, кроме того, 20-ю и 29-ю моторизованные дивизии. Неравенство сил было видно, как говорится, и невооруженным глазом.
Борьба за Смоленск — это практически первые в начальный период войны крупные уличные бои в большом городе, как бы пролог к грандиозному Сталинградскому сражению, которое развернулось год спустя. И мне хочется обратить внимание на следующее! обстоятельство.
В первом и втором изданиях книги «Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945: Краткая история» (1965 г., с. 74 и 1970 г., с. 75), а также в четвертом томе «Истории второй мировой войны 1939–1945» (1975 г., с. 501) утверждалось, что противник захватил город 16 июля. Не навеяно ли было это утверждение выводами комиссии, которая в те дни выясняла причины отхода наших войск из южной части Смоленска? Да, такая комиссия, созданная по распоряжению командования фронта, действительно работала, когда шли напряженные бои за северную часть города, и она поспешила свернуть свою деятельность, записав, что Смоленск оставлен нашими войсками 16 июля, а заодно и обвинила полковника Малышева в якобы преждевременном взрыве днепровских мостов. Но ведь это же ошибочные выводы! К моей огромной радости и радости всех участников Смоленского сражения, правда о времени оставления города восстановлена. И сделано это в третьем издании «Великой Отечественной войны 1941–1945», выпущенном в свет Воениздатом в 1984 году. Там сказано: «16 июля противник ворвался в южную часть города и в результате последующих почти двухнедельных боев овладел им»