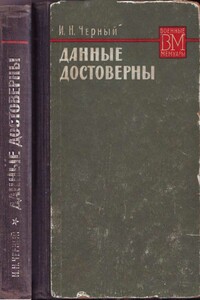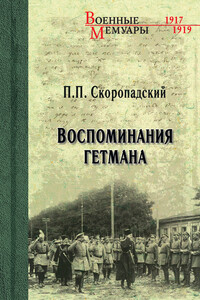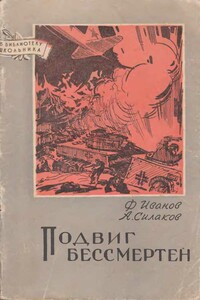А шпионов, диверсантов, провокаторов хватало. Редкий день проходил без того, чтобы противник не засылал в войска армии хотя бы двоих или троих лазутчиков. Сразу распознать их было не всегда просто, ибо принимали они различные, порою весьма неожиданные личины.
Однажды к группе наших командиров подошел человек со знаками различия батальонного комиссара. Поздоровался, предложил табачку, затем отрывисто спросил:
— Как, товарищи, сдаваться будем или стреляться?
Кто-то тихонько ругнулся, но незнакомец не отреагировал на это, подошел к другой группе и повторил вопрос. Командирам показалось странным подобное поведение «комиссара». Его задержали и доставили к контрразведчикам. Он оказался переодетым вражеским агентом.
Запомнилось мне и такое. Среди бойцов, вышедших из окружения, обратил на себя внимание красноармеец, призванный в армию в Воронеже. Был он тих, незаметен, в общие разговоры не вступал, но о чем-то пошептался с одним из бойцов и получил оплеуху. Вмешался батальонный комиссар Поскребышев:
— В чем дело?
— А вы спросите этого гада, в чем дело. Про силу фашистских танков и самолетов брешет, ничем, мол, их не взять…
Словом, парнем занялись контрразведчики. Выяснилась в общем-то довольно заурядная для того времени история. Этот человек вместе с группой других красноармейцев попал в плен. Фашисты стали вербовать из их числа согласных шпионить в советском тылу. Но среди пленных предателей не нашлось, а этот решил «обмануть» гитлеровцев: согласился на вербовку, дал подписку, чтобы, дескать, вырваться из плена и оккупантам не служить.
— А когда дал подписку, — рассказывал задержанный, — фашисты вывели меня на улицу, дали ручной пулемет и приказали стрелять по сараю. Я отказывался, знал, что там люди. Но обер-лейтенант сказал, что все равно всех их расстреляют. Ну я и начал стрелять, а обер меня фотографировал. Потом вытащили из сарая трупы и опять меня фотографировали с убитыми и предупредили, что если вздумаю провести немцев, то они отошлют мою подписку вместе с фотографиями в НКВД и там с меня с живого сдерут шкуру…
Думаю, после этой истории читателю нетрудно сделать вывод, что мы ни на минуту не забывали о поддержании в частях и соединениях армии строжайшей бдительности. Это диктовалось самой военной необходимостью, заботой о сохранении высокого боевого духа личного состава, об исключении возможности проникновения в его ряды провокаторов и шпионов, паникеров и трусов. Разумеется, требования высочайшей бдительности не давали основания огульно не доверять всем окруженцам. Генерал-лейтенант Лукин говорил по этому поводу:
— Люди побывали в огне и лиха хватили через край, пока к нам пробивались. Тот, кто дрожит за свою шкуру, попытается отсидеться в какой-нибудь норе, не станет рисковать головой, искать к нам дорогу. Значит, у тех, кто пришел к нам, не иссяк заряд патриотизма. В подавляющем большинстве своем они настоящие воины, им можно верить. А если среди них и попадаются враги, то наша задача как можно быстрее выявить их и обезвредить.
Доводы командарма были резонны. Вышла к нам группа, человек сорок, во главе с капитаном, за точность фамилии которого не ручаюсь, но, сдается мне, Гусев. Обмундирование на бойцах потрепано, но почищено, сами побриты. Все с оружием, у многих немецкие автоматы, а у одного даже пулемет. Вид у людей, правда, очень усталый, изможденный.
Спрашиваю капитана:
— Что за группа?
Капитан доложил, что в неравном бою полег почти весь личный состав полка, здесь его остатки, и сказал:
— У нас, товарищ бригадный комиссар, у всех одно желание — драться с фашистами, Родину защищать! Просим дать нам рубеж обороны.
— Сперва отдохните, а потом решим, как с вами быть, — ответил я.
— Бойцы вас не поймут, товарищ бригадный комиссар, — резко, даже, как мне показалось, со злостью возразил капитан. — О каком отдыхе может идти разговор, когда враг нашу землю кровью советских людей заливает! — И он кивнул головой в ту сторону, откуда доносился грохот боя.
— А как вы считаете? — обратился я к красноармейцам, стоявшим в строгом строю.
Вперед выступил пулеметчик: