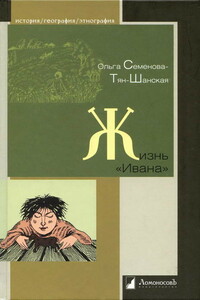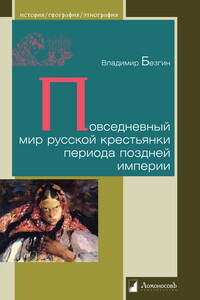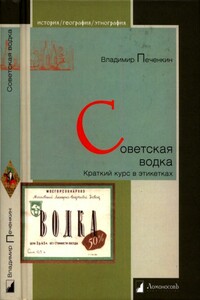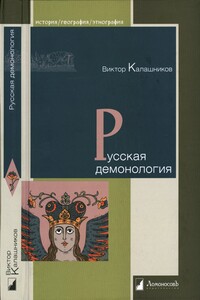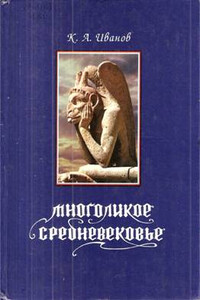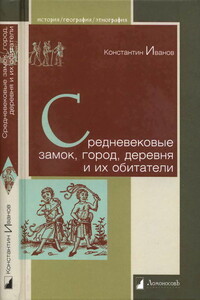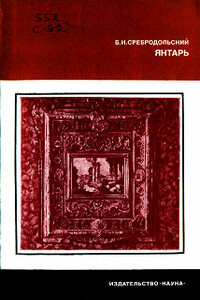Иди же, добрый конь, вперед!
Конь, предоставленный самому себе, приходит к пещере, в которой пустынник Треврицент приуготовляет себя к небу. Парцифаль согревается у огня пустынника, в котором узнает своего дядю, узнает от него о чудесах Грааля и знакомится с историей рода Титуреля. Пустынник сообщает ему также о смерти его матери.
Полная тишина и уединение успокаивают Парцифаля; речи пустынника содействуют его внутреннему преображению. Его душа воскресает и оживляется чувством пламенной веры. Незаметно проводит он в гостях у святого человека целых четырнадцать дней. Из пещеры пустынника Парцифаль выносит душевный покой: он уходит оттуда «с душой, открытой для добра».
…Прошло еще пять лет. И вот мы снова видим Парцифаля за гостеприимным столом короля Артура. Так же роскошен королевский пир. И опять во время пира приезжает Кундрия, но теперь не с проклятиями, а как вестница мира и радости. Она призывает Парцифаля быть королем Грааля: теперь он вполне достоин этой чести, ибо на самом Граале появились письмена, призывающие Парцифаля на царство.
Со слезами радости на глазах отправляется Парцифаль с Кундрией в замок Грааля. Им навстречу выходят рыцари-тамплиеры. Все смотрят на него как на нового короля. Болезнь их старого короля Амфортаса снова обострилась. В замковой зале, в которую вступил Парцифаль, приняты все меры к облегчению его страданий. Всюду разбросаны ароматные травы. Горит алойное дерево. Ложе Амфортаса усыпано драгоценными каменьями, обладающими целебной силой. Все напрасно. Но когда Парцифаль задает ему вопрос, который не задал при первом свидании, Амфортас не только выздоравливает, но и становится молодым. Этому чуду предшествовала горячая молитва Парцифаля о больном перед Граалем.
От Кундрии Парцифаль узнал, что после его разлуки с Кондвирамурс она родила ему двоих сыновей-близнецов Кардеиза и Лоэнгрина. Парцифаль едет к ней. Описание их встречи считается одним из лучших мест поэмы. Поцелуй соединил Парцифаля с Кондвирамурс, так долго живших в разлуке друг с другом.
Таково в общих чертах содержание «Парцифаля». Вольфрам изображает нам в этой поэме рыцарство во всем его блеске, на высоте его положения. Особенно он щедр на описания всякого рода — оружия, платья, коней и т. п. Но широкая и пестрая картина рыцарской жизни не была единственной задачей автора. Он хочет этими образами высказать свою любимую идею, свое глубокое убеждение. По отношению к этой идее можно провести параллель между «Парцифалем» Вольфрама и «Фаустом» Гете.
Фауст смутно стремится к чему-то, чего-то ищет, бросается от наслаждения к наслаждению и наконец отыскивает смысл жизни, отыскивает свое счастье. Оно не в любви прелестной, беззаветно преданной и глубоко несчастной Маргариты, оно не в дивно прекрасной, гордой и властной Елене, оно не в славе, не в собственности, оно — в труде, в труде упорном, постоянном, на пользу людей, на пользу всего мира. «Важность в подвиге, — говорит Фауст Мефистофелю, — а не в славе».
Парцифаль — Фауст XIII века. Это все тот же бессмертный человеческий тип, высший тип человечества, не удовлетворяющийся настоящим, вечно стремящийся вперед к совершенно неясному, но смутно чувствуемому идеалу. Парцифаль, как и Фауст, заблуждался, глубоко падал, переживал тяжелую пору сомнения и, как Фауст, наконец нашел свой идеал. Идеал его — высшее, духовное рыцарство, Святой Грааль, религия. Выше всякого земного великолепия, выше всякого героизма стоит героизм веры, стоит религия. Вот основная идея «Парцифаля». Св. Грааль — символ религии. Сомнение неизбежно, но сильный дух побеждает его. Душа человека мощного проходит сквозь сомнение, как золото сквозь огонь; она становится еще чище, еще светлее, еще ближе к своему божественному первоисточнику. Верное служение отысканному наконец идеалу, постоянное, упорное стремление дойти до него спасают человека. Это два сильных крыла, поднимающие человека над землей и возносящие его в обитель вечного блаженства.
Но есть одна невольно бросающаяся в глаза разница между Парцифалем и Фаустом. Фауст доходит до окончательного убеждения только своими собственными силами, своей личной волей, своим разумом, несмотря на мешающее ему на каждом шагу злое начало, олицетворенное в Мефистофеле. Рай не шел к нему навстречу. Парцифаля же, сомневающегося и отрицающего Верховное Существо, направляет на светлый путь истины посторонняя воля; по крайней мере, этой посторонней воле принадлежит первый почин в деле спасения Парцифаля. Увлеченный ею, он кается в своих заблуждениях, и это покаяние ведет его к спасению. Рай сам идет навстречу к нему. В отмеченной разнице отразилось различие эпох, светочами которых были Гете и Вольфрам фон Эшенбах.