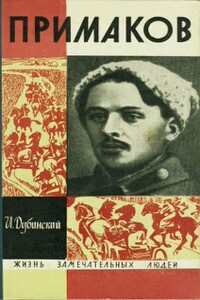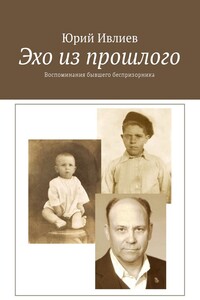— Чьи будете, светлячки? — стараясь говорить поласковее, спросил Мостовой.
Дети упорно молчали. Но грузная торба из старого рукава, висевшая через плечо девчонки, говорила о многом.
Мостовой, порывшись в кармане, извлек два куска колотого сахара. Девочка взяла гостинец сразу. Мальчик долго от него отказывался, но, взглянув на сестру, протянул руку за лакомством. Девочка сняла с плеч торбу, опустила ее на траву.
— Передайте таткови. Лежит связанный на подводе.
— Как его звать? — спросил Мостовой.
— Богдан! — ответили в один голос дети.
— А по-лесовому?
— «Божа Кара!» — гордо отчеканил мальчик. Сбросив тяжелый пиджак, угрюмо добавил: — И это таткови.
Казак Запорожец, услышав сердитый голос малыша, выругался:
— Бандитское семя! Нет вершка от горшка, а как смотрит, волчонок!
— Брось, Максим, — осадил бойца Мостовой. — Дети за отцов не отвечают.
— Где ваша хата, светлячки? — присев на корточки, сочувственно спросил Мостовой.
— Наша хата за лесом, — доверчиво ответили малыши, — в Клопотовцах.
— Попрощайтесь с татком и марш к мамке. Сами и передадите ему торбу и спинжак. Тебя же, Максиме, прошу, присмотри за атаманами. А то как бы «Божья Кара» не убежала от кары народной...
Помню, мы все тогда жалели детей атамана. Если бы их было только двое — этих убитых горем несчастных ребят!
Казалось, что со всех сторон доносится тревожный крик: «Спасите наши души! Спасите наши души!» И надо сказать, что усилиями нашей партии, усилиями таких людей, как Мостовой, множество и множество душ было спасено.
После операции у Майдана Голенищева мы с комиссаром дивизии Лукой Гребенюком и Мостовым с напряженным выниманием слушали у нас в штабе, уже в Литине, сбивчивое повествование атамана «Божья Кара» — Богдана Цебро. Что-то общее было в зверином облике этого обитателя лесных трущоб с петлюровцем Максюком, захваченным год назад в Грановском лесу на Гайсинщине.
Те же небрежно выбритые щеки, тот же землистый цвет лица — результат неспокойных ночевок в землянках и постоянного напряжения нервов, тот же настороженный, явно недружелюбный взгляд исподлобья и тот же отталкивающий, дающий о себе знать на расстоянии, густой козлиный запах — обязательный спутник неопрятных, долгое время лишенных бани людей.
Но если крутой и тонкий нос Максюка придавал его обрюзгшему лицу грозное, можно даже сказать, свирепое выражение, то заурядная, с коротким вздернутым носом физиономия Цебро и наполовину, по всей длине, отсеченное ухо не вязались ни с «высоким предназначением», ни с грозной кличкой атамана.
Еще на обратном пути в Литин душевно взъерошенный Братовский-Ярошенко, морщась от сыпавшихся на его голову проклятий, советовал обратить внимание на карнаухого.
— По чину, как и я, сотник, — шептал, покачиваясь в седле, бывший петлюровский резидент. — Но он из тех сотников, которые знают больше иного полковника...
...Лука Гребенюк, сморщив лицо, глуховатым голосом попросил крутившегося в штабе взводного Почекайбрата:
— Голубчик, будь ласка, распахни окно. Атмосфера что-то тяжелая стала.
Мостовой предложил пленнику поменяться местами.
— Что? Не терпите мужицкого дыма? — не без ехидства спросил петлюровец.
— Рос на махре. С десяти лет. Терплю дым, но не терплю козлиного духа.
— В лесу бань-то нет! — заметил Гребенюк. — Один душ, и тот порой уж очень горячий! Вот как на пасеке за Майданом Голенищевом.
— Не боитесь, сорвусь? — Искоса поглядывая на широко раскрытое окно, атаман уселся на табурет Мостового.
— И не подумаете! — отчеканил комиссар дивизии. — Не те времена. Теперь ваш брат думает о другом. Рады, что зацапали. По глазам вижу: хочется сказать нашим казакам спасибо, а стыдновато. И дурацкая гордость не позволяет...
— Ну и меткость! Из десяти возможных девять прямо в яблочко! — сердито хмурясь, выпалил атаман. — Вы кто, знахарь? Был у нас один из этой категории, сотник Максюк, гадал все больше на бобах. А вы на чем?
— На морзянке!
— Не пойму! — Лицо пленного вытянулось. — Может, это как знаменитый «железный факир» Ибн Бамбула? Зырнет на твои кишени и начнет чесать без запинки, сколько там грошей, какие документы. Наша контрразведка сразу его замела — шпион! Таким глазищам и стальные стенки нипочем! Было это осенью девятнадцатого года, в Попелюхах. Там давал представление бродячий цирк.