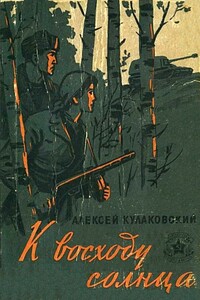Лет пятнадцать назад, после пожара в нашей Арабиновке, ей довелось побывать в одной дальней деревне, Черногубове, в городе же она никогда не была. В Черногубове какие-то дальние родичи — десятая вода на киселе — купили ей, как погорелке, платье и кое-какую обувь. С того времени Марфа при всяком подходящем и неподходящем случае в разговоре с людьми старалась вставить: «Вот как я когда-то была в Черногубове…» — дескать, не весь же век она прожила дома, в своей деревне, не все новости и не новости: услышаны ею только возле своего колодца или своей часовни.
Другой участник ссоры — Роман Гнедович, единственный сын у отца, у которого полволоки земли, трое всегда гладких коней да коровы такие, что, наверно, круглый год дают молоко. Есть у Романа и еще один козырь — отец имеет шерсточесальную машину. Поздней осенью, когда кончаются все полевые работы, на двор Гнедовича съезжается много людей, и они выстраиваются в очередь. Кто приехал с возом и может запрячь в машину своего коня, тот занимает отдельную очередь и платит хозяину меньше. Кто пришел пешком и рассчитывает на хозяйского коня, тот стоит в другой очереди, и плата с него берется бо́льшая.
Во время массового завоза шерсточесалка работает круглосуточно, завозчики запруживают весь двор, по ночам тулятся в сенях, на сеновале, в погребе, а некоторые, более знакомые, и в хате. Неуютно становится хозяевам, тесновато, но после такого «овечьего сезона» Романов отец коротко подстригает свою бороду (наверно, теми же ножницами, что и овец стрижет), на какое-то время забывает о своей привычке сутулиться и глядеть в землю (будто вечно чего-то ищет), а у самого Романа появляется что-нибудь новое из одежды: шапка-ушанка или кубанка, сатиновая рубашка с перламутровыми пуговицами, штаны-галифе с острыми клиньями, а то и новые сапоги. Все знали, что у Романа уже есть две пары сапог: одни юфтяные, которые можно смазывать дегтем и надевать чаще, а другие хромовые, на выход, их он смазывал гуталином и начищал до блеска. Баночка гуталина, купленная у старьевщика Шмуила, была у Романа надежно спрятана и доставалась оттуда только по большим праздникам.
Шерсточесальная машина давала Гнедовичам немалую прибыль, делала эту семью известной в соседних и даже некоторых дальних деревнях, однако в своем селе люди почему-то мало обращали внимания на это, и как когда-то звали Гнедовичей Гнедыми, так не забывали этого прозвища и теперь. Отца еще хоть просто — Гнедой, а по имени называли без издевки — Ахрем. А сына и по имени звали не Роман, а Ромацка, видимо потому, что он имел какие-то странные, с вывернутыми пятками, как бы детские, ноги, и так же, как ребенок, выговаривал буквы: «ц» вместо «ч», «с» вместо «ш», «з» вместо «ж». Прозвище его также уменьшили и звали не Гнедой, как отца, а Гнеденький.
Про Лопаниху можно сказать пока только то, что с какого-то уже довольно давнишнего времени ее стало тянуть на соленое и на горькое. Она могла съесть не только целую селедку, но и выпить самого рассола, потому-то ее всегда и мучила жажда. Когда старуха лезла на печь, то сначала ставила туда большую кружку с квасом или водой. В разговоре с людьми не забывала вспомнить о своем самом больном и тревожащем ее: «Убудет ли хотенье пить на том свете?» Спрашивала об этом чуть ли не у каждого встречного. И теперь на печи, на приставной стойке, у нее стояла кружка с водой или, может, с квасом. Если б она была ближе к музыканту, то, наверно, задала б и ему свой извечный вопрос.
Наконец Хотяновский при полной, даже настороженной тишине погасил свою «кадилку», настроил скрипку и с необыкновенным азартом «врезал» польку. В бубен бил дядька Ничипор, по прозвищу Самошвайка, который из-за своего возраста стыдился пускаться в пляс, но на вечеринки ходил, как ни попадало ему за это от жены. Он же и достал бубен из-за заслонки.
Первым вынырнул на середину хаты Ромацка Гнеденький. Поджал верхнюю губу, шмыганул носом и зыркнул, как бы стрельнул, колючими глазками в ту сторону, где стояла младшая сестра Марфы, Алекса. Она шевельнулась и немного подалась вперед своим толстоватым животом. Ромацка подошел и, уже не глядя на девушку, протянул руку.