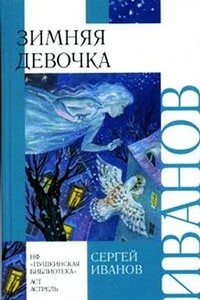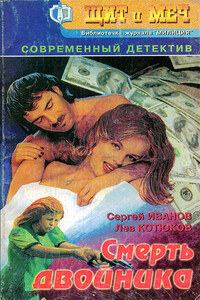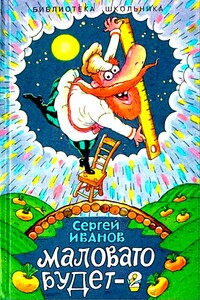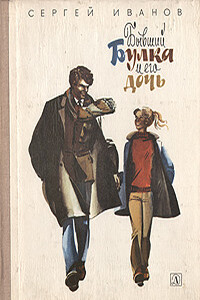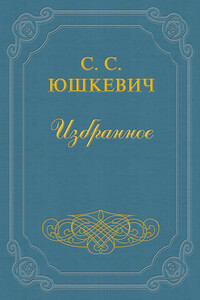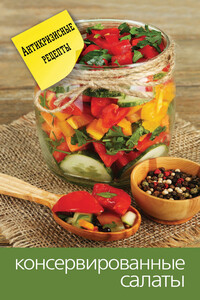Раным-рано, когда небо на востоке чёрное и красное, Стелла Романова вздрогнула и открыла глаза. Было свежо, сыро, в раскрытое окно входил запах тумана.
Но ничего этого долго не слышала Стелла, всё ещё продолжая жить своим сном.
Сон был тягучий, сладкий. Стелле хотелось думать о нём. И в то же время она знала, что проснулась нарочно. Шагнула с какого-то балкона, прямо с перил — чтобы испугаться, вздрогнуть и открыть глаза.
Такого ещё не было с ней никогда. Внутри всё сжималось. И в то же время она лежала совсем расслабленно. Ни разу не шевельнулась с тех пор, как открыла глаза. И боялась пошевельнуться. И уже сейчас знала, что никогда и никому не расскажет об этом сне…
Но кто знает, сколько прошло с тех пор, как она очнулась? Уж ни одна ли всего секунда?..
Окно прорублено было высоко, как это делают только в замках да в старых подмосковных дачах. И окно это ей нравилось. В нём всегда видно было небо — и утром, и когда она засыпала. Сейчас в нём стояла золотая, не успевшая стаять луна и две бледные звезды. Они висели над домом, над участком, заросшим берёзами, над всем дачным посёлком, над воем здешним миром…
Но ничего этого не видела Стелла Романова, хотя глаза её были раскрыты широко и удивлённо.
Затем она проснулась ещё раз, в обычную пору раннего бодрого утра, когда и следует подыматься двенадцатилетним девочкам. Солнце горело старательно, словно извиняясь за то, что уже середина августа. Берёзы шумели, осыпались, ничуть не жалея листьев.
Роса была клейкая и холодная, сверкала резко. Так не умеет сверкать роса ни в июне, ни в июле, а только в середине августа.
Стелла шла по высокой траве, по узкой тропинке, и августовская роса обжигала ей ноги до самых колен.
Вся измочившись, в отчаянном веселье она добралась наконец до соседской дачи. Прыгнула скорей на крыльцо и долго елозила тапками о коврик — всё равно делать больше нечего: хозяйка была занята. Лишь на секунду повернула к Стелле голову:
— Здравствуй, Стеша. Ты чего?
— Мама просила: мучки полстаканчика одолжите, пожалуйста… Для сырников.
— Ну сейчас, обожди.
И продолжала разговаривать с тётей Машей, их общей молочницей. Тётя Маша говорила, а соседка, Вероника Петровна, поддакивала и кивала.
Тётя Маша рассказывала о своём муже, которого Стелла тоже хорошо знала, о дяде Вене, — как он сильно пьёт.
— А что я сделаю, посуди ты сама, — говорила тётя Маша. — Раньше надо было думать, а теперь — трое детей, куда я уйду. И к кому? Хозяйство, корова…
Вероника Петровна как бы виновато пожала плечами и быстро закивала головой.
— И решила я, Вера, — продолжала тётя Маша, — что уж буду с ним доживать.
Стелла глянула на тётю Машу, удивлённо нахмурив брови. Взрослые женщины не замечали её… Как же это можно — «доживать»? Словно ей время надо скоротать до ужина, а там, дескать, и на боковую. Словно после будет другая жизнь. А уж эту ладно — доживёт и с дядей Веней!
Перед глазами встал её сон, казалось так тщательно забытый. Теперь она не могла не признаться, что это был сон про любовь… А тётя Маша как будто явилась совсем из другого мира. Она и одета была… нет, не то чтобы как-то там «бедно». А вот небрежно. Раз уж решила доживать, то не всё ли равно.
И Стелла догадалась вдруг: вот оно, значит, как бывает, когда старая. И обрадовалась — хотя и через силу, но обрадовалась, — что к ней это никакого отношения не имеет, что она ещё очень долго не будет старой. Вечно.
Взяла свои полстакана муки, вышла на улицу. Теперь совсем не заметив росы. Глянула вслед тёте Маше. Словно надеялась что-то рассмотреть в ней, что-то ещё понять в её старости… А увидела другое.
Увидела, как легко и старательно несла тётя Маша тяжёлые бидоны с молоком. Один был большой, почти огромный, который тётя Маша оставляла посреди улицы, а другой поменьше, с которым она заходила в калитки к своим клиентам.
А ведь для кого-то тётя Маша всё-таки старалась. И может быть, даже для дяди Вени. А вернее, для своих троих детей. Стелла их знала плохо. Просто видела несколько раз. Там был мальчишка, её одногодок, и две девочки — помладше.