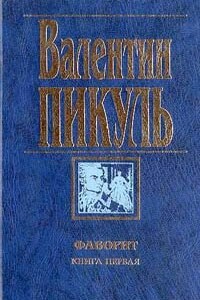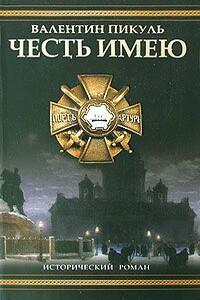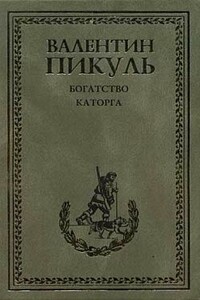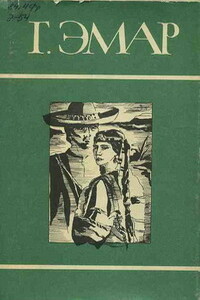Коковцев долго пребывал под впечатлением этой грустной беседы. Он понимал, что изнанка жизни во Владивостоке очень сложная и не скоро еще люди заживут в этих краях с полнокровной радостью бытия.
«Наездник» держал три котла под парами, легко набирая узлы. Миновав скалу Дажелета, сдали тужурки в шкиперскую. Коковцеву опять выпала ночная вахта.
Сверясь со штурманской прокладкой, он сказал, что, очевидно, ровно в два часа ночи клипер выйдет на траверз Цусимы:
– Вас не будить, Петр Иванович?
– Остров как остров, – зевнул Чайковский. – Ничего примечательного. Глубины приличные. Зачем меня дергать?..
Цусима – без единого огонька, будто вымерла! – сонным призраком исчезла за кормою клипера. Ночная вода, отяжелев, нехотя расступалась перед таранным «шпироном» боевого клипера. И никто ведь не подозревал, что имя этих далеких островов – Цусима! – острое, как сабля самурая, болезненно вопьется в сердце каждого русского человека…
«Окини-сан, ждешь ли? О чем думаешь, нежная?»
* * *
Никто не сомневался, что уже завтра они окунутся в разморенную влажностью духоту нагасакской бухты. Но проливом Броутона, оставляя Корею по правому борту, вошли в бурное Желтое море, и только здесь известились от командира, что «Наездник» следует в порт Чифу, сохраняя полную боевую готовность.
– Очевидно, будем снимать с берега наше посольство.
– А как же Окини-сан? – вырвалось у Коковцева…
В штурманской рубке страдал на диване жестоко укачавшийся Леня Эйлер. Коковцев быстро листал календарь,
– Что ты? Или прохлопал день своего ангела?
– Ангела, – подавленно ответил Коковцев. – Поду май, завтра кончается срок моего контракта, и Окини-сан уже не моя!
Эйлера мучительно и долго выворачивало в ведро.
– Море не любит меня, – сказал он, брезгливо выти рая рот. – Извини… Но я крестил свою мусумушку в православную веру, и теперь ее опекает наш епископ Николай, а не эта пройдоха Оя-сан с брошкой вроде чайного блюдечка.
Страшный крен отбросил Коковцева к переборке, едва не расплющив о стенку, рядом качался, как роковой маятник, медный футляр ртутного барометра, показывавшего «Ясно».
– Все пропало! – отчаялся мичман.
Прежде захода в Чифу решили отстояться в Порт-Артуре, хотя китайцы могли «салютовать» клиперу прямой наводкой. На всякий случай, вне видимости берегов, опробовали работу плутонгов и действия комендоров. Бросили якоря на внешнем рейде, подальше от батарей, на клотик фок-мачты «Наездника» сразу уселась ворона.
– Не к добру, – решил командир клипера Коковцев робко постучался в каюту Чайковского:
– Петр Иванович, у меня тошно на душе: месяц контракта кончился, как удержать Окини – не придумаю. Оя-сан не станет держать ее даром и наверняка заставит переписать контракт. Тем более в Нагасаки вернулся холостой «Джигит»!
– Скорее всего, так и будет.
– Что же мне делать? – приуныл мичман, чуть не плача.
Чайковский обнял его:
– Милый вы мой! Никак, серьезно влюбились?
– Я уже не могу… не могу жить без нее!
– А не вы ли осуждали любовь по контракту? Ладно, в Чифу наш консул, поговорите с ним. А что там ворона? Еще сидит, падаль, на клотике?
– Сидит и каркает. Лучше бы пристрелить… Ворона сорвалась с мачты, когда клипер развернулся в море. Чифу, оттиснутый к воде мрачными скалами, показался гаже всего на свете. Коту все равно где спать, священнику тоже, но доктор просил не пускать матросов на берег. В первую же ночь стоянки «Наездник» был ослеплен блеском фонарей английского крейсера, положившего якоря на грунт Чифу невдалеке от клипера. Дул сильный ветер, по рейду гуляла тяжелая зыбь, на камбузе из котлов выплеснуло матросское варево. Для офицеров были открыты консервы «Pate de lievre» (паштет из зайца) американского производства. Геннадий Петрович Атрыганьев терпеливо выждал, когда офицеры наелись, потом сказал:
– От души поздравляю, господа! Уж если нельзя верить газетам, то как же можно верить тому, что писано на этикетках? Американцы давно передушили всех кошек в Чикаго и Нью-Йорке, понаделали из них паштетов и теперь продают их в консервах наивным французам. – Посещать берег он дружески отсоветовал. – В Чифу ничего любопытного. Пыль на улицах страшная.