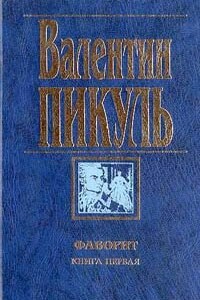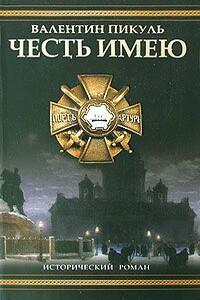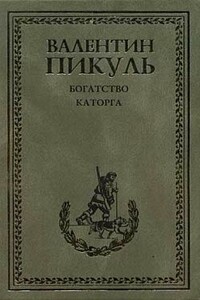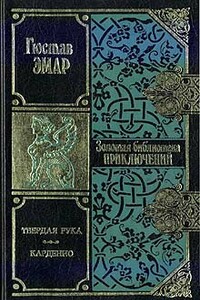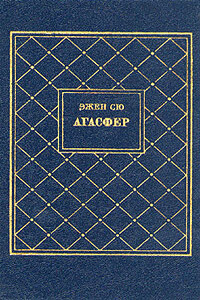В шуме моря – скрипы уключин и всплески весел.
– Скорее… скорее… – шепотом умолял Коковцев.
Волна вскинула его выше, он увидел белый вельбот, а японский офицер, сидевший на румпеле, показался спасителем.
– Хаяку… хаяку! – звал его Коковцев. – Скорее!
Грубые руки вцепились в воротник тужурки, потащили Коковцева внутрь шлюпки; японский офицер держал в руке русско-японский разговорник, из которого с улыбкой вычитал слова.
– Зи-да-расту, – сказал он. – Каки по-жи-ва-те?
– Камау-на, – отвечал Коковцев. – Хорошо…
Да! Теперь все хорошо, даже великолепно. Японский офицер, вроде бы разочарованный таким оборотом дела, сунул разговорник в карман. Под банкою вельбота, выпучив глаза, сидел крейсерский священник и, громогласно икая от ужаса, держал на вытянутой руке клетку с попугаем. Попугай был мертв! А вокруг Коковцева вяло, словно сонные крабы, шевелились тела спасенных, сотрясаемые приступами надрывного кашля. Это клокотала в их легких вода… Коковцева бурно вырвало. В состоянии шока, он еще не понимал, что открывается новая страница его биографии – он в плену!
* * *
Внутри японского крейсера – как в хорошем доме, и тепло и чисто; под ногами плетенки манильских матов; ровное гудение машин и вытяжной вентиляции. Надо отдать должное японцам: вели они себя удивительно сдержанно, не проявляя перед русскими никакой радости по случаю победы над ними. Коковцева провели по отсекам так замечательно, что при всем желании флаг-капитан не смог бы заметить ни боевых разрушений, ни особенностей в японском вооружении. Он оказался в низком полутемном отсеке, покрытом линолеумом. Здесь горевали пленные офицеры с кораблей Рожественского и Небогатова, еще не вышедшие из транса после событий 14 и 15 мая… А в углу каюты плоско вытянулся мертвец, закинутый желтым одеялом. Сидящие потеснились, освобождая место для Коковцева, и он сел, представившись офицерам. «Что им сказать?»
– Я ничего не понимаю, – сказал он. – Мы ведь в этом деле не были дурачками. Слава Богу, честно трудились на благо флота. Не спали ночей на мостиках, отстреливались на полигонах Тронгзунда и Бьёрке, мы тщательно изучали опыт чужих флотов и вдруг… Кто виноват в том, что мы оказались поражены?
Только сейчас он все осознал и стал плакать. Никто его не утешал, но вежливо спросили – что с ногою?
– Погано, – отвечал он, поглядывая на мертвеца под желтым одеялом. – При взрывах летит столько черной пыли, этот кошмарный дым из разбитых труб… все разжижается водою, и моя бедная нога двое суток подряд квасилась в этом грязно-соленом растворе… А сейчас даже не болит: отупело.
– Кого там били сейчас? – спросили его.
– «Дмитрия Донского». Затонул. Через кингстоны. Глубина здесь хорошая, сажен в двести, так что японцы вряд ли станут возиться с подъемом этого старья. Мы, господа, у Дажелета…
Крейсер сильно качало. Коковцев ощутил приторный залах гниющего тела -мертвец все время привлекал его внимание.
– Кто это с нами, господа?
– Он тут лежал, когда нас сюда посадили…
Владимир Васильевич отдернул край одеяла. Это был капитан второго ранга с оторванной нижней челюстью, а из верхней блеснули коронки золотых зубов. Коковцев снова закинул его.
– Где-то встречались. А где – не могу вспомнить…
Лязгнула дверь. Два японских матроса со штыками у поясов без слов подхватили Коковцева с таким палаческим видом, будто его пора тащить на плаху, и, действительно, потащили на «плаху» операционного стола. Прямо над собой он увидел яркую лампу, лицо хирурга, который по-французски грубо сказал:
– Ладно, ладно. Давай сюда ногу.
– А-а-а-а! – заорал Коковцев, выгибаясь от боли.
– Тихо. Я сделаю тебе только то, что надо…
Без хлороформа, под одним кокаином, хирург великолепно и быстро обработал ступню. Потом с похвальным проворством извлекал из тела осколки, о которых Коковцев даже не подозревал, страдая всем телом. Он считал их по стуку, с каким они падали в фаянсовую чашку, и был удивлен, досчитав до восемнадцати. Потом начал сильно волноваться:
– Где мой китель? Там в кармане бумажник.
– Не волнуйся. Китель в сушилке. Тебе дадут чистое белье. А что в бумажнике, Кокоцу-сан?