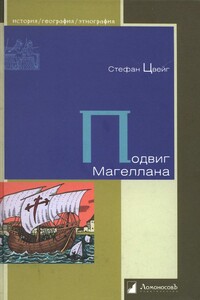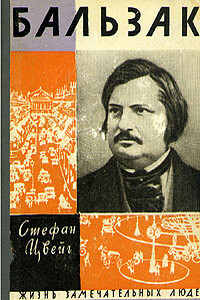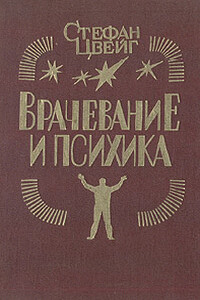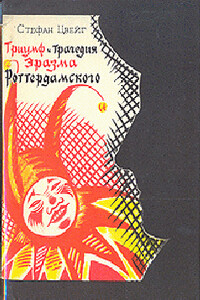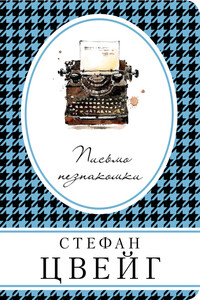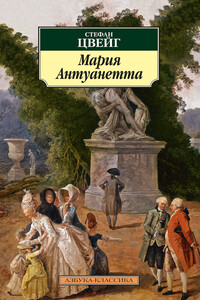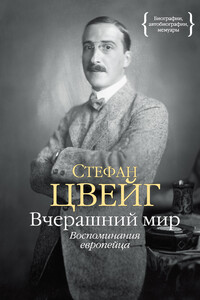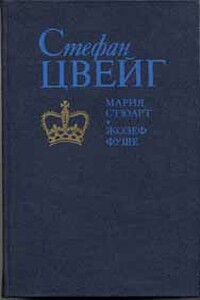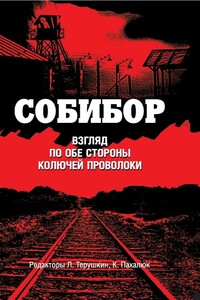Можно заметить, что даже в споре миролюбивый Эразм во многом идет навстречу своему противнику. Он и тут напоминает, что не стоит переоценивать важности подобных дискуссий и что надо задать себе вопрос, «правильно ли ради нескольких парадоксальных утверждений весь мир приводить в смятение». В самом деле, уступи ему Лютер хоть чуть-чуть, чтоб только сделать шаг навстречу, и эта духовная стычка закончилась бы миром и согласием. Увы, Эразм ждет уступчивого понимания от самой упрямой головы столетия, от человека, который в делах веры даже на костре не откажется ни от буквы, ни от йоты, этот ярый и яростный фанатик лучше погибнет или даст погибнуть всему миру, чем отступится хоть на вершок от самого мелкого параграфа своего учения.
Лютер отвечает Эразму не сразу, хотя атака всерьез задевает гневливца. «Если другими книгами я, выражаясь прилично, подтирал… то это сочинение Эразма я прочел, да, сказать по правде, хотел забросить его за скамью», — говорит он в своей обычной грубой манере. Но в том 1524 году его одолевают заботы более важные и трудные, чем богословская дискуссия. Пожелав заменить старый порядок новым, он выпустил на волю неуправляемые силы, и возникла опасность, что его радикализм теперь окажется недостаточным для других, более радикальных. Лютер требовал свободы слова и вероучения, теперь этого требуют и другие: пророки из Цвиккау, Карлштадт, Мюнцер, все эти «швармгайстеры»[220], как он их называет, — они тоже во имя Евангелия собираются бунтовать против императора и империи; слова самого Лютера против дворян и князей стали кистенем и пикой для крестьянских толп. Но там, где Лютер имел в виду лишь духовную, религиозную революцию, угнетенное крестьянство требует революции социальной, явно коммунистической.
С Лютером повторилась духовная трагедия Эразма: его слова породили события, которых он сам не хотел, и как Эразма он порицал за вялость, так поносят его теперь сторонники «Союза Башмака», те, что громят монастыри и жгут иконы, называя его «новым папским софистом», «архиязычником и архимошенником», «приспешником антихриста» и «надменным куском мяса из Виттенберга». Он, до сих пор бывший непререкаемым авторитетом, вынужден вести борьбу на два фронта — против слишком вялых и против слишком неистовых, он должен нести ответственность за самое страшное и кровавое восстание, какого давно не переживала Германия. Ибо в сердцах взявшихся за оружие крестьян — его имя; лишь его бунт и успех в борьбе против империи придали смелости этим простолюдинам взбунтоваться против своих господ и деспотов. «Мы пожинаем ныне плоды твоих мыслей, — с полным правом может ему теперь бросить Эразм. — Ты не признаешь мятежников, но они признают тебя… Ты не можешь оспорить общего убеждения, что толчок этому бедствию дали твои книги, особенно те, что написаны по-немецки».
Непростое решение для Лютера: должен ли он, корнями связанный с народом и в нем живущий, увлекший его против князей, теперь отречься от него, борющегося, как он учил, во имя Евангелия и свободы, или порвать с князьями? Впервые (ибо положение его внезапно стало очень напоминать Эразмово) он пробует действовать в духе Эразма. Он призывает князей к терпимости, призывает крестьян «не прикрывать Христовым именем срам своих немирных, нетерпеливых и нехристианских дел». Но вот что особенно непереносимо с его самоуверенностью: грубый народ внимает уже не ему, а тем, кто обещает больше, Томасу Мюнцеру и коммунистическим богословам[221]. Ему надо наконец принять решение, так как он сознает, что эта внутригерманская социальная война — помеха в его собственной религиозной войне против папства. «Если мы этих крамольников и всех этих мужиков не заманим в сети, с папством все обернется иначе». А там, где речь идет о его деле и его миссии, Лютер не знает колебаний. Сам революционер, он вынужден стать на сторону противников немецкой крестьянской революции, а если уж Лютер становится на чью-то сторону, он умеет действовать только крайними, мерами, бешено, неистово. Среди его сочинений нет более жуткого и кровожадного, чем то, которое написано в момент величайшей опасности, — памфлет против немецких крестьян. «Кто погибнет за князей, — вещает он, — станет святым мучеником, кто не за них падет, отправится к дьяволу, а потому надо бить, душить, колоть — кто где может, тайно и явно, памятуя, что нет ничего более ядовитого, зловредного и дьявольского, чем бунтовщик». Он беспощадно стал на сторону верхов против народа. «Ослу надобно, чтоб его били, черни — чтоб ею правили силой». Ни слова добра, пощады и милосердия не находит этот одержимый боец, когда победившее рыцарство с чудовищной жестокостью творит расправу над побежденными. У этого гениального, но в ярости не знающего меры человека нет ни слова сострадания к бесчисленным жертвам, а ведь тысячи пошли в поход на рыцарские замки, доверившись его имени и его мятежному делу. И с жутковатым мужеством заявляет он в конце, когда поля Вюртемберга уже обильно удобрены кровью: «Я, Мартин Лютер, разбил взбунтовавшихся крестьян, ибо я велел убивать их: вся их кровь на моей шее».