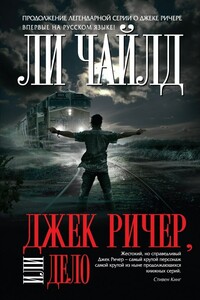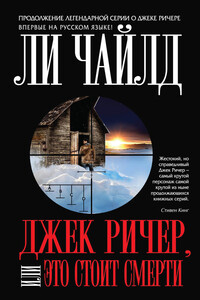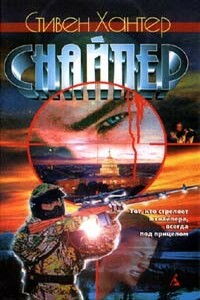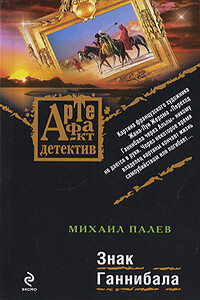– Без суеты, сэр. Помните, что вам нечего скрывать.
Я обернулся и увидел, что Джимми уже наполовину разобрал винтовку и отворачивает третий винт. Дверь закрылась. Мы с Лоном оказались во внешнем помещении офиса, из которого вышли в коридор. Я толкал перед собой кресло, стараясь контролировать дыхание.
– Ну как, по-твоему, хороший выстрел?
– Хью, никогда не спрашивай меня о том, что я видел в прицел.
Мы подъехали к лифту. Я целую вечность ждал, когда поднимется кабина. Втолкнув Лона внутрь, нажал кнопку с цифрой «один» и услышал, как за моей спиной закрылись дверцы.
Когда кабина открылась и я вытолкнул Лона в вестибюль, мы как будто оказались в совершенно другой Америке. Знаю, это звучит банально, и опять подозреваю себя в попытке придать повествованию излишний драматизм.
Как бы то ни было, атмосфера определенно изменилась. Казалось, поблекли краски дня. Все, кто попадался нам на пути, находились в состоянии глубокого шока: перекошенные от горя лица, нетвердая походка, сбивчивая речь. После выстрела Лона прошло всего около полутора минут, и никто еще не успел осознать произошедшее, но все почти мгновенно поняли, что случилось нечто страшное, непоправимое. Воздух был пронизан почти осязаемым ужасом. И тут поднялась паника. В вестибюле было немноголюдно, но все вдруг разом заговорили, перебивая друг друга:
– В голову?
– О боже, он мертв?
– Кто, черт возьми, мог сделать это?
– Может быть, русские?
– Откуда стреляли?
– Из Книгохранилища? Вы не шутите?
Никто не обратил на нас внимания. Я подкатил Лона к дверям, развернул кресло и вывез его на улицу, где мы окунулись в залитый солнечным светом хаос. Люди словно потеряли рассудок и беспорядочно носились взад и вперед, издавая нечленораздельные звуки.
Я видел лишь одного человека, двигавшегося осмысленно. Полицейский, который подбежал стремглав к зданию и чуть не сбил меня с ног, ворвался в дверь, расталкивая выходивших. Не знаю, выполнял ли он приказ, или это его собственная инициатива. Разумеется, даже если уже было известно, что стреляли из Книгохранилища, все располагавшиеся поблизости здания, выходившие окнами на Элм-стрит, следовало опечатать для проведения расследования.
Полицейский тоже не обратил на нас внимания. Возможно, потому, что издали заметил Лона в инвалидном кресле. Что касалось Джимми, все еще остававшегося внутри здания, то я нисколько не сомневался в его способности перехитрить любого далласского полицейского в любой ситуации.
Я принялся осторожно спускать кресло по ступенькам на тротуар, соображая, каким путем лучше добраться до отеля, чтобы нам не пришлось протискиваться сквозь обезумевшие толпы людей, которых привлекала возможность стать очевидцами и участниками трагедии исторического масштаба, как несколькими десятилетиями ранее других людей привлекала возможность увидеть изрешеченные пулями тела Бонни и Клайда. Единственный приемлемый вариант заключался в том, чтобы пересечь Элм-стрит, дойти до Хьюстон-стрит и далее идти по Мейн-стрит и Коммерс-стрит.
Неожиданно на последней ступеньке левое колесо кресла за что-то зацепилось. Я наклонился, чтобы посмотреть, в чем дело. Оказалось, это кусок цемента, отвалившийся от соединительного шва между плитами. Я убрал его и, когда выпрямился, едва не встретился взглядом с Аликом.
Опустив голову, я отвернулся в сторону и наконец спустил кресло на тротуар. Он меня не заметил. Была ли это удача? Наверное. Правда, Алик все равно вряд ли узнал бы меня в ковбойской шляпе. К тому же он наверняка пребывал в таком состоянии, что не замечал ничего вокруг.
Его предали. На мгновение, но только на мгновение, во мне проснулась жалость к нему. Он смотрел через окуляр прицела, пытаясь поймать в его перекрестье цель, когда увидел то, что видел только Лон – хотя спустя несколько месяцев, благодаря мистеру Запрудеру, это увидел весь мир. В этот момент Алик должен был догадаться, что его обманули и бросили на произвол судьбы. Очевидно, его охватила ярость, которая спустя несколько секунд сменилась паникой. При этом его наверняка терзали мысли о том, что у него опять – в который уже раз! – ничего не получилось, и теперь ему крышка. А может быть, Алик утешался тем, что раз его предали, значит, он все-таки что-то собой представляет.