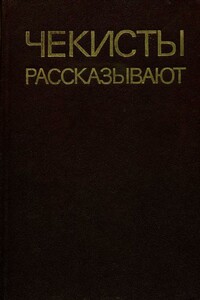- Я верю в него, это истинный вождь! Он мудрец и философ, полководец и писатель. Сподвижник Егора Созопова и Ивана Каляева. Участник убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича... Он подскажет нам верный путь, вдохнет в нас новые силы и озарит светом надежды!
- Я только однажды, да и то мельком, слышал о Савинкове, - наконец осторожно признался Велегорский. - Но никогда и ие предполагал, что он возглавляет движение. И даже то, что он в Москве...
Велегорский изо всех сил старался подчеркнуть искренность своих слов. Его все назойливее одолевал один и тот же вопрос: "Откуда она знает о Савинкове? Откуда?"
- Если вы не осмелитесь сделать этот решительный шаг, я сама поступлю так, как велят мне моя совесть и долг, - пригрозила Юнна.
Велегорский поспешил ее успокоить:
- Хорошо, но сперва я наведу нужные справки, посоветуюсь. Необходима осмотрительность...
- Советуйтесь, наводите справки, но помните - время не ждет, предупредила его Юнна и покинула Велегорского.
Теперь она терзала себя вопросом: правильно ли поступила, не сделала ли слишком поспешный и опрометчивый шаг? Ведь Калугин ничего не говорил ей, она решила проявить инициативу сама. Как-то Калугин передал ей слова, сказанные Дзержинским: "Каждый чекист в зависимости от обстановки волен поступать по-своему, но каждый несет ответственность за результаты".
Ответственности она не боялась, не страшилась и за свою жизнь, но вдруг разговор с Велегорским принесет не пользу, а вред? Разве могла она заранее предугадать все последствия? А если Велегорский начнет докапываться и узнает, что нет Агнессы Рокотовой, племянницы царского полковника? Юнна рассчитывала на то, что Велегорский, обрадовавшись совету, в чем-то пренебрежет конспирацией и свяжется если уже не с самим Савинковым, то с кем-то из руководящих деятелей штаба. Но получилась осечка. Видимо, Велегорский не настолько опрометчив, как это ей порой казалось. И вот теперь ее охватило самое тягостное состояние - состояние неизвестности...
Юнна осторожно стукнула в дверь: звонок не работал. Как всегда, навстречу ей поспешила мать. Возвращение Юнны домой стало для нее единственной радостью в жизни.
Первое, что заметила Юнна, - это конверт, который мать прижимала к груди, как прижимают что-то бесценное и святое. Юнну обожгла мысль: письмо от отца! И она тут же, с порога, бросилась к матери:
- Наконец-то, паконец-то!..
- Да, да, - растерянно, тихо проговорила мать. - Письмо... Еще утром принес почтальон... Так неожиданно...
- Милая, милая, как я за тебя рада, и за отца, и за всех нас! Читай скорее!
- Но... - Голос матери дрогнул, стал глухим, изумленно-тревожным. - Я никогда не распечатывала твоих писем...
- Это мне?
- Тебе... Но как ты сказала? - Лицо Елены Юрьевны озарилось тихим светом надежды, и Юнне почудилось, что она молодеет у пее на глазах. - Ты сказала: "и за отца"?
- Да, я сказала "за отца": думала, что письмо от него. Потому что верю: он жив...
- Ты веришь в чудо, - печально заметила мать, и глаза ее перестали блестеть. - Но скорей прочти письмо, мне кажется, оно принесет тебе радость.
Юнна бережно взяла конверт. Мать поставила подсвечник на стол и направилась в свою комнату.
- Нет, не уходи, - остановила ее Юнна, будто боялась читать письмо в одиночестве.
Елена Юрьевна тихо присела на тахту, так, чтобы лучше было видно лицо дочери.
Юнна вскрыла конверт и вытащила из него сложенные вчетверо листки. В глаза сразу бросились четкие черные линии, и она, поняв, что письмо написано на нотной бумаге, догадалась: от Мишеля! Она долго не решалась развернуть листки. И вдруг, закрыв глаза, развернула.
"Мой маленький бог!" - прочла она первую строчку, и сердце ее застучало от тревоги и радости.
"Мой маленький бог!" - прошептали одни лишь губы. Она не спешила читать дальше: даже если бы в письме не было больше ни одного слова, Юнна все равно считала бы себя самой счастливой на земле.
Еще никто никогда не говорил ей таких слов. Не говорил их раньше и Мишель. Во время встреч они чаще всего молчали или вели речь о самых простых, будничных вещах. Ей всегда очень хотелось сказать ему ласковые слова, но язык почему-то не повиновался ей. Значит, и он тоже хотел сказать ей что-то ласковое, по не сказал.