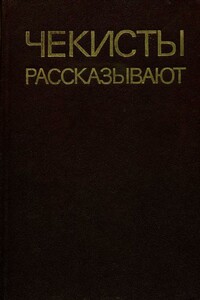Минуты три спустя красноармейцы вбежали в тот же подъезд. Прогремел еще один выстрел, видимо последний.
И все смолкло.
По лестнице спускался Кенигиссер. Бритая голова расплывчато светилась в полумраке лестничной клетки...
Дзержинский поставил на ноги всю Петроградскую ЧК. Кенигиссер - пешка, за ним, несомненно, стояли те, кто без устали плели здесь, в Петрограде, нити заговоров и мятежей. Весь день вел он расследование, руководил операцией по поимке всех, кто был причастен к злодейскому убийству. Потом ему принесли телеграмму: "Сегодня эсерка Каплан совершила покушение на Ленина.
Выстрелами из браунинга Ленин тяжело ранен".
Пальцы судорожно вцепились в телеграфный бланк.
Дзержинский прижал ладонь к левой стороне груди. Леденящая бледность залила впалые щеки.
"И пожалуйста, позвоните мне из Питера..." А сейчас... Кто может ответить, что с ним сейчас?!
- Я немедленно возвращаюсь в Москву, - Дзержинский произнес эти слова едва слышно, хотя ему казалось, что он говорит как обычно.
Он тут же вышел из здания и сел в автомобиль. Машина понеслась на вокзал.
- Я понимаю, я все понимаю, - оправдывался начальник вокзала. - Но на путях нет ни одного пассажирского состава. Через час, не раньше...
- Я спрашиваю: что идет сейчас на Москву?
- Товарняк...
- Я еду на нем!
Чекисты, сопровождавшие Дзержинского, пытались уговорить его войти в теплушку, но он отказался наотрез, оставшись на тормозной площадке.
Последняя летняя заря догорала над лесами, сквозь которые с грохотом летел обычно неторопливый, а сейчас стремительный товарный состав. Холодные сумерки окутывали гудящее полотно.
С каждой минутой приближалась Москва, но Дзержинскому казалось, что поезд будет вечно стучать на стыках, так и не достигнув Москвы.
Дзержинский стоял, ухватившись за борт тормозной площадки, в наглухо застегнутой шинели, прямой и неподвижный, как изваяние. Небо темнело, рождая несметное число удивительно ярких звезд. Звезды вспыхивали в рельсах, отсвечивая синим огнем. Паровоз нещадно гудел, будто хотел доказать свое старание. Звенели разбуженные леса. Эхо дробило, множило звуки, и чудилось, будто тысячи таких же составов, какой мчался сейчас к Москве, взвихрили леса, и они уже не смогут заснуть.
Леденящий ветер бил в лицо, но Дзержинский не замечал ни ветра, ни холода. Ранен Ильич! Если бы он, Дзержинский, был там, во дворе завода Михельсона, рядом с Лениным, он не задумываясь прикрыл бы его собой, своим телом.
Как и всегда, Дзержинский не думал о себе. Как и всегда, он думал о революции. В эти часы во всей России не было человека, который бы больше, чем Дзержинский, сознавал свою ответственность за защиту республики.
Сейчас это был уже не человек в обычном смысле этого слова: это был сгусток нервов, испепеляющих чувств, неукротимого действия.