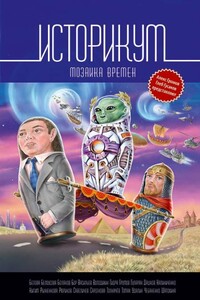Все-таки дорога была невозможно узкая: местами танки, правой гусеницей елозя над обрывом, левым бортом царапали скалу. Один уже сорвался – правда, метров с трех, но безнадежно: некуда было приткнуть буксиры, чтобы тащить его тросами. Экипаж отделался одним синяком на четверых. Когда входили в Чехословакию, предался воспоминаниям Зарубин, этих танков под откосы спустили – ну, сотни полторы. На полста пятых пээмпэ стоял совсем хреновый…
Туров почти не слушал его. Вот оно, настоящее вторжение, думал он. Мы начали настоящее вторжение. Положено было что-то чувствовать, но – не получалось. От вчерашнего ликования остался прогорклый привкус. Что-то не так? Вроде бы – все то… но… Не понимаю.
«Есть в неудачном наступленьи тоскливый час, когда оно уже остановилось, но – войска приведены в движенье, еще не отменен приказ, и он с жестоким постоянством в непроходимое пространство, как маятник, толкает нас…» Именно так, подумал вдруг Туров. Войска приведены в движение. Но – командующий умер… убит… и операция продолжается по инерции, срабатывают давно собранные и снаряженные механизмы, но целеустремленности нет, вот беда, градус уже не тот, сомнения гложут всех, сомнения и расчет… Да, мы захватили плацдарм, но – пойдет ли второй эшелон? Тылов у нас нет, вот ведь – дожили… А надо – сразу ставить крепости, города… пятнадцать-восемнадцать миллионов, говорил Ю-Вэ, светлая ему память… Ничего не будет, понял он вдруг, Горбачев не тянет, не та порода. Не та. Ах, черт, неужели – все зря? Не раскисай, одернул он себя. Когда мы преподнесем ему шестнадцатую республику: благодатный климат, чертова прорва зерна и мяса, образованное население, которое бросится нам на шею, когда мы прижмем к ногтю этих судаков из профсоюзов и покажем самый малый набор достижений цивилизации… да наш пенициллин здесь – панацея от всех болезней…
На малой высоте прошло назад, на заправку, вертолете звено.
Было десять сорок пять.
Пленников поднимали по одному, вдували в обе ноздри по лошадиной дозе кокаина – и, пока они не начинали чудить, привязывали к косым крестам. Двадцать один крест окружал подножие «монумента» – гигантского ромбического кристалла, косо вырастающего из скальной, отполированной до льдистого блеска площадки. Вчера они шли к нему весь день, и монумент рос, рос, рос – не приближаясь, – и это пугало. Но поздним вечером, уже после наступления темноты – они достигли его и повалились, но пришлось не расслабляться, а напротив – делать последнее усилие…
– Я сам, – Эндрью вдохнул кокаин, зажмурился – и прижался спиной к кресту, расставив ноги и подняв руки. Мервин привязал его и сам повернулся к своему кресту, тяжело дыша. Сол поднес ему кокаин…
Иссиня-черная стена косо нависала над ними. Высоко, но видно – алели неизвестные буквы. Когда шли, силились прочесть – не смогли. Четыре коротких слова.
Баттерфильд.
Сол. Черное лицо, черная клочковатая, торчащая вперед борода.
– Кит… – шепотом. – Будешь уходить – возьми мою кобуру…
– Что?
– Кобуру. Ты же знаешь: Сол – хитрый еврей. Прощай. Все было прекрасно…
– Прощай.
– Ты не бойся. Я шепну за тебя словечко.
– Бесполезно, дружище. Меня туда на порог не пустят. Так что – вряд ли увидимся…
Сквозь тупость, тяжесть, внутренний мрак и песок – острой иглой в самое сердце. Вильямс отошел поспешно…
Надо торопиться, пока все живы. Он шел, посыпая кокаином головы распятых. Наверное, его видели. Он сам видел себя: почему-то сбоку и сверху: маленьким кривоногим жестоким карликом. Где Дэнни? А, вот он: возится с костром. Торопись, солдат, торопись… Баттерфильд уже висел на кресте, уронив голову на грудь, из носа капала кровь – часто, крупными каплями; они ударялись о скалу и разлетались, как шарики ртути. Здесь совсем нет пыли, запоздало вспомнил и почти удивился Вильямс. Что бы это значило?.. Два костра горело, дым тек по ногам. Третий. Все, Дэнни. Все. Уходим.
Вот она – кобура Сола. Большая сумка на ремне с хитроумной застежкой.
И вновь – будто сверху, с десятого этажа: три костра треугольником, ярче, ярче – и два человечка, на четвереньках ползущие от них. Один почти тащит другого, а другой – будто бы сам рвется в огонь. Кто кого тащит, неясно: оба маленькие, оба оборванные. По гладкому стеклу им трудно ползти, и возникает некое общее сожаление вокруг. Черепашки торопятся в гору… А вот – от костров, ставших белыми, побежали огненные дорожки к подножию монумента…