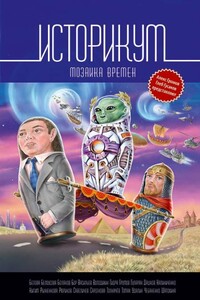Не дом это был для нее, а пристанище, почти вокзал: недаром ей снились паровозные свистки и мучил по ночам запах угольной гари. Она просыпалась в панике и страхе опоздать куда-то, но никогда не помнила снов. И, открыв в темноту глаза, лежала и ждала утренних сумерек. Начиналось движение за окнами, за забором, кричали петухи, вдали плыло мычание стада. Тогда она засыпала вновь.
Не дом, а пристанище. Она знала заранее, что будет именно так, но очень хотела ошибиться и почти уверила себя в том, что ошибается, ошибается… Но ей просто позволили здесь жить, и все.
Будто ничего не случилось. Она знала, что будет именно так.
Это бесило ее. Бешенство мешало плакать.
А может, не бешенство, а что-то другое, чему она не знала названия. Но глаза всегда оставались сухими, и по утрам, глядя на свое отражение, она говорила себе: стерва. Костлявая стервозная сука. Убила бы…
Она отнюдь не была костлявой, лицо и плечи округлились, грудь поднялась. Живот все еще оставался плоским, но она понимала: это ненадолго. Она не хотела признаваться себе самой в своем обессиливающем страхе перед собственным телом, перед его изменениями, перед тем, что ему предстоит. Это была тайна, равная тайне смерти.
Почему я не умерла тогда? и тогда?.. и тогда? Как было бы легко…
Наверное, именно этот страх и загнал ее сюда, в нору. Только страх, не что иное…
Поэтому и дни были одним днем, повторенным многократно. Течение исчезло. Медленно кружилась в заводи успокоенная вода, неся на себе жухлые листья. Евангелина, вечно пахнущая золой и мокрой шерстью дочка местного нотариуса, взятая Светланой в услужение, будила ее; потом длился завтрак вдвоем с Сайрусом; потом следовало ехать в школу, где Светлана пыталась учить пению и танцам девочек йоменов и шахтеров. По дороге туда она встречала почтальона и улыбалась ему; по дороге обратно встречала констебля и тоже улыбалась. В детстве у кого-то из офицеров она видела музыкальную табакерку: дамы в кринолинах и гвардейцы совершали движения паваны. Потом она почему-то стала бояться той шкатулки…
День мерк лишь для того, чтобы возникнуть снова.
Лишь в школе происходило что-то настоящее, но оно забывалось сразу за порогом.
Страшное сгущение атмосферы, уже однажды выбросившее ее за порог и далее по свету, продолжалось. Нечем становилось дышать в доме, полном взаимной вежливости и предупредительности.
Незачем было говорить. Хватало полужестов.
Но как-то однажды ход вещей нарушился. Почтальон не просто поднял шляпу, а издалека замахал рукой:
– Леди Кэмпбелл! Леди Кэмпбелл! Вам телеграмма!
И она услышала, как заскрежетали, напоровшись на маленький камушек, шестерни кружащегося времени. Со звуком рвущихся цепей рвалась полоска бандероли.
Олив!
Светлана лихорадочно читала слова, не попадая взглядом по нужным буквам. Потом – заставила себя перечитать все еще раз, и медленно. Потом – еще медленнее.
Она видела его. Видела, но не смогла поговорить. Не успела. Может быть, он даже не заметил ее. Но он жив, хотя и выглядит усталым. Она, Олив, теперь постарается не упустить его из виду и опекать по мере возможности. Она же, Светлана, должна опекать Сайруса. Ему сейчас тяжелее всех. Ты помнишь нашу глупую клятву, Светти?
Помню…
– Вы плачете, милочка? – удивленно спросила ее мисс Картер, старая дева, преподающая историю мира.
– Ветер, – сказала Светлана, трогая пальцами щеки. Под пальцами скользнула едва заметная влажность.
Вечером она не находила себе места. Ей нужно быть теплее с Сайрусом, нужно ударить по той льдине, которая намерзла между ними и не пускала их друг к другу… Он вышел из кабинета, совсем непохожий на себя.
– Сладкая… – выдохнул он. – Почему же ты мне ничего не рассказала?..
Это пришли письма. Письмо от Олив, отправленное почему-то из Хармони (как ее туда занесло?), письмо полковника Вильямса – и огромный, на двадцать пять страниц, отчет Сола. Там было все.