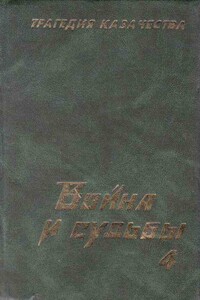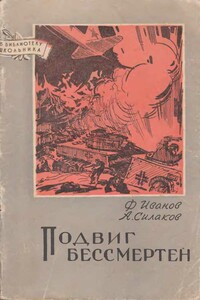Пробыл я в таком полуживом состоянии в этой палате приблизительно суток двое; ко мне подходили врачи и сестры, что-то потихоньку обсуждали, но никаких процедур не выполняли. Подносили какую-то еду, но есть я не мог, и все это уносилось обратно, только всякие сладости, вроде конфет или печенья, оставались в тумбочке, а потом было сложено в бумажный мешок, который все время так и путешествовал со мною.
Был декабрь месяц, немцы после катастрофы под Сталинградом начали отвод своих войск с Северного Кавказа. Настала очередь и нашего госпиталя. Нас грузили в санитарные автомобили и везли куда-то. Путешествие было недолгим — так мне показалось, или же я опять проехал этот путь в бессознательном состоянии.
В новом госпитале за мной ухаживала русская санитарка, пожилая женщина с добрым русским лицом. Она и рассказала мне, что я нахожусь в Георгиевске, а привезли меня из Прохладного. Откуда она узнала, что я русский, не знаю, но она подолгу сидела возле меня, горестно вздыхая. Возможно, вздыхала она не столько обо мне, сколько о себе. Яков Айзенштат в своей книге «Записки секретаря военного трибунала», изданной в 1991 году в Лондоне, писал об одном случае в поселке Артемовскуголь на Украине: «Медицинские сестры местной больницы остались в поселке. Выяснились все обстоятельства, связанные с организацией медсестрами госпиталя для немцев. Было проведено расследование, и десять медицинских сестер предстали перед Военным трибуналом 12-й армии… Был оглашен приговор, по которому все медицинские сестры приговаривались к расстрелу». Конечно, утверждение, что русские медицинские сестры могли «организовать» немецкий военный госпиталь, было чистейшим бредом в духе тогдашней советской юстиции, но людей расстреливали и по менее значительным обвинениям. 12-я армия действовала на Северном Кавказе. Возможно, и эта добрая женщина попала под этот кровавый сталинский каток.
Движение на запад продолжалось. Теперь наш железнодорожный эшелон состоял в основном из обыкновенных товарных вагонов, пол которых был устлан соломой, на которой мы и располагались, человек по пятнадцать на вагон, с одним солдатом-санитаром, который и кормил всех (кроме меня), и перевязывал, при необходимости, опять же кроме меня. Подойдет, посмотрит, покачает головой и отходит — не решается. Гной уже выступал у меня из- под повязки, запах — отвратительный, тем более, что отвернуться, чтобы его избежать или ослабить, возможности у меня не было; я так и лежал все время на правом боку.
Подъехали к Ростову, вроде бы эшелон наш начали разгружать, но скоро прекратили, и эшелон двинулся дальше.
Окончательно выгружены мы были в Таганроге. Меня на носилках внесли на 2-й этаж и уложили на койку. Палата — большая светлая комната, в ней больше десятка коек, моя — первая от двери, у широкого окна. В палате все раненые — челюстники, разной степени тяжести и разной степени выздоровления, кто-то уже бегает по всему госпиталю, а кто, как и я, еще не может встать с постели. На одного просто страшно смотреть, у него полностью нет нижней челюсти, как-то там натянута кожа, а в рот вставлена трубка, через которую он и питается. Кстати, некоторое время спустя, когда я уже начал помаленьку, невнятно и шепеляво, что-то произносить, один врач сказал мне, что, если бы «мой» осколок прошел на один сантиметр выше, у меня бы челюсти не было совсем. Бог миловал.
Я не успел еще как-то отойти от мучительной боли, вызванной укладкой-перекладкой моего тела на носилки и с носилок, как меня снова на носилки и в операционную на перевязку, долго обмывали из большого шприца гной, перевязали, отнесли в палату и оставили в покое. Но не совсем. Здесь меня в первый раз покормили — напоили горячим молоком с сахаром. Даже эта процедура была для меня нелегкой, рот у меня не открывался, нужно было это молоко процеживать как-то через стиснутые зубы. Было это 24 декабря 1942 года, я хорошо это заметил, потому что на следующий день было католическое рождество, и в госпитале происходила соответствующая суматоха. Значит, я не ел одиннадцать суток.