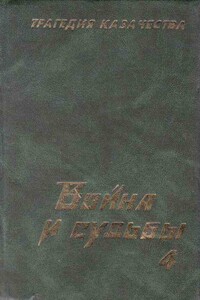Через полчаса он пришел к нам снова, видимо, обходя всю линию обороны, и сказал, что будем прорываться обратно, иначе завтра за день немцы не оставят здесь ни одного живого человека. Видно было, как трудно ему было говорить нам это, ведь все мы знали приказ № 227, а он прямо открыто искал нашего сочувствия, ведь мы были для него в некотором роде свои.
Конечно, мы ему сочувствовали, но стало ли ему от этого легче?
По окопам прошел замполит, отбирая от нас красноармейские книжки и комсомольские билеты. Кстати, комсомольские билеты он вручил всем нам, молодым, недели две назад, прямо на передовой, хотя никто никаких заявлений не писал и никто ни у кого ничего не спрашивал. Но когда уже дают, ведь не откажешься, могли запросто решить, что ты собираешься бежать к немцам.
У нас в расчете произошли некоторые изменения. Григорян и еще один курсант-армянин решили выводить или выносить (как придется) Сагагелова, и вторым номером у меня стал Михаил. И, естественно, в расчет включился Мозговой. Хуже всего было Аванесову: у него в ящике оставалось четыре мины, а свободного лотка не было. В конце концов он всунул их в вещмешок.
Зеленая ракета, наш сигнал. Это впервые, до этого у нас никаких ракет не было. Выбрались из окопов (очень жаль было такой хорошей позиции) и двинулись. Уже через несколько минут где-то впереди завязалась жаркая перестрелка, видимо, наши стрелки уже столкнулись с немцами. И сразу — множество осветительных ракет, и сразу — снова артиллерийский огонь из многих орудий во всей ферме, и где мы были, и где уже нас не было. Где-то там, спереди, раздалось жидкое «Ура!» и сразу заглохло. В свете ракет видим, несколько танков с автоматчиками на броне идут туда, где стрельба. Решаем начать и мы.
Устанавливаем миномет прямо в воротах полуразрушенного коровника и принимаемся за работу. Дикин стоит, прижавшись к откосу ворот, а мы с Михаилом — мину за миной, мину за миной. По танкам. Танку мы сделать ничего не можем, но Дикин кричит: «Хорошо, хорошо!» Говорит, что наши мины рвутся удачно, немцы с танков так и посыпались горохом. А мы свои мины туда же, в кукурузу.
А снаряды рвутся все чаще и чаще, и многие достаются нашему коровнику. Вот вскрикнул Мозговой, к нему добежал Аванесов, вернулся, собрал у нас все индивидуальные перевязочные пакеты, говорит, что у Мозгового прямо-таки разворотило все левое плечо. Даже, говорит, невозможно такое сделать осколком, может, целый снаряд попал, да не разорвался? Кто его знает, на войне все возможно.
У нас заканчиваются мины. А ружейно-пулеметная стрельба впереди как-то перемещается, видно, наши стрелки все-таки продвигаются куда-то. А мы — можем так и остаться здесь. Можем и навеки, так как огонь орудий и танков по нашим коровникам превратился в какой-то шквал, причем нам кажется, что вообще все снаряды достаются только нам.
Дикин говорит: «Выпускаем последние мины, и бегом к стрелкам».
— А я? — жалобно вырывается у меня.
Им-то хорошо налегке, а с минометом не очень-то побегу. Был бы Григорян, он бы этот миномет одной рукой и с какой угодно скоростью на край света утащил, а я совсем не Григорян.
Дикин раздумывает несколько секунд: «Взорвем миномет!»
Последние мины улетают туда, в прикрытое небольшим снежком кукурузное поле, мы уже поднимаемся, но Дикин вдруг говорит мне: «А ну-ка, сбегай, посмотри, что там с Мозговым». Я бегу, а снаряды рвутся, пришлось два раза лечь. Добираюсь туда, где в углу коровника лежал Мозговой, а угла нет, весь он обрушился, и я только ощупал груду битого кирпича.
А Мозговой был родом из того самого Ардона, на который мы все это время наступали, там жили его родители.
Я вскочил, чтобы бежать назад, к своим, и в это время прямо в воротах, где стоял наш миномет, разорвался снаряд. Думаю, спастись ни у кого из наших не было никаких шансов.
И тут меня охватил страх. Я уже немало был на войне, видел многое, видел смерть, но как-то никакого страха не испытывал. Впрочем, психологи утверждают, что это нормально для детского возраста, значит, у меня была еще детская психология. А тут прямо какой-то ужас. Все-таки одному человеку на войне плохо.