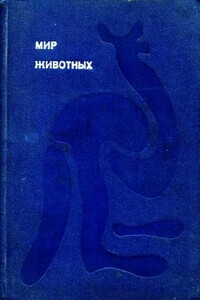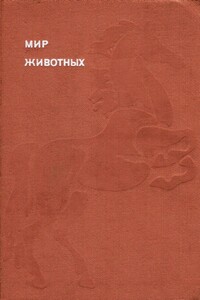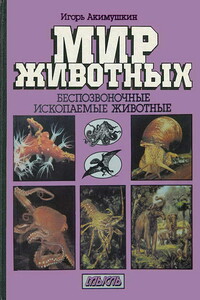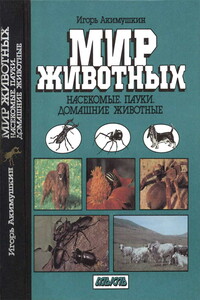У нас, у людей, тоже сохранился в мозгу крошечный остаток третьего глаза: особая такая шишковидная – так ее и называют – железка, или эпифиз (весит она всего 100-200 миллиграммов) {48}.
Но у гаттерии третий глаз вполне еще в хорошем состоянии, почти как настоящий. Сидит он на темени, в маленькой глазной орбите, и прикрыт сверху тонкой прозрачной пленкой. Видит он, правда, плохо: едва свет от тьмы отличает.
А свет гаттерия не любит, прячется от солнца. Живет она под землей, в норах. Но норы сама не роет: приходит в гости к буревестникам.
На тех же островах, где живут гаттерии, гнездятся тысячи буревестников. Гаттерии залезают в норы к буревестникам и весь день в них сидят. Только ночью выходят на охоту за улитками. Птицы и пресмыкающиеся не ссорятся.
И нередко в одной норе, в глубине хода, на подстилке из листьев живут две семьи – гаттерия и буревестники. Иногда ящерица, раскопав пол, откладывает здесь свои яйца. А в другом углу норы высиживает птенцов самка буревестника. Гаттерия спит рядом, свернувшись дугой. Птиц и птенцов она никогда не обижает.
Про гаттерию биологи говорят: реликтовая это ящерица, живое ископаемое. И в этих словах нет ни иронии, ни осуждения – в них сдержанный крик восторга перед удивительным явлением природы.
Кто они, «живые ископаемые»? Выходцы из давно минувших эпох, пережившие свое время древнейшие существа. Они, вернее очень похожие на них животные, жили еще на заре истории нашей планеты, «когда мир был юным». С тех пор эти закосневшие в своем консерватизме «осколки» давно исчезнувших миров почти не изменились. Их эволюция словно бы остановилась. Живые ископаемые обитают обычно в каких-нибудь очень небольших по площади районах, как, например, гаттерия:
на нескольких островах у берегов Новой Зеландии и нигде больше. И обычно условия жизни в местах их обитания всегда постоянны, в течение миллионов лет почти не менялись. В этом и секрет удивительного консерватизма реликтовых животных, которых люди, более склонные к метафорам, называют «живыми ископаемыми». Не менялись внешние условия – не было причин, следовательно, приспосабливаться, приобретать новые привычки и органы.
«Живые ископаемые» – животные обязательно древние, почти всегда обитатели уединенных островов, плоскогорий, пустынь, озер, морей – так или иначе отрезанных от мира небольших районов.
Небольших? Относительно небольших. Потому что мы знаем даже целый материк, населенный сплошь «живыми ископаемыми». Это – Австралия.
Около ста милилонов лет назад Австралия откололась от других материков мира. С тех пор широкие моря окружают ее со всех сторон. Сумчатые животные (вспомните кенгуру), которые незадолго перед тем расплодились по всей земле, получили пятый континент в полное свое владение. Животные несумчатые появились на свет уже после того, как материк этот стал островом. Они не смогли пробраться в Австралию. Только дикие собаки динго, крысы и мыши приплыли сюда на корягах, а летучие мыши прилетели по воздуху (собак, возможно, привезли и люди).
Австралия – единственная также страна, в которой сохранились утконосы и ехидны, самые первобытные из зверей, «живые ископаемые» среди млекопитающих животных. Они живут еще по традициям своих ящероподобных предков: не родят живых детенышей, а откладывают яйца. Как птицы!
Даже растения в Австралии очень своеобразные: около ста видов из них нигде больше не встречаются. Словом, это – страна-уникум.
Часто говорят и пишут, что одно из самых «эксцентричных» животных – кенгуру было открыто и впервые описано капитаном Джеймсом Куком в 1770 году, когда знаменитый его корабль «Эндевор» бросил якорь у берегов Восточной Австралии.
Но это неверно. За сто пятьдесят лет до Кука голландец Франс Пелсарт при обстоятельствах весьма трагических завел первое знакомство с кенгуру.
В 1629 году его корабль «Батавия» потерпел крушение у берегов Западной Австралии. Капитан Пелсарт отправился за помощью в настоящую Батавию (на острове Ява, ныне Джакарта). А в это время некоторые матросы из тех, что остались на берегу в Австралии, решили воплотить в жизнь давнюю мечту: захотели стать пиратами! Сговорились и перебили около сотни своих товарищей, которые мечтали, по-видимому, о другом.