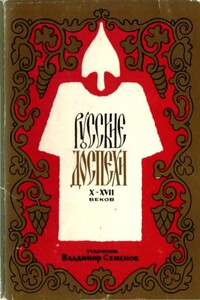Не решусь утверждать, но смею думать, что адмирал держался приблизительно такого же мнения… Если среди нас, в тесном кают-компанейском кругу, не находилось человека, который рискнул бы сказать громко: «Нет надежды! Впереди — бесполезная гибель. Надо возвращаться!» — не рискнуть бы сказать этих роковых слов только потому, что, может быть, нашелся бы хоть один, несогласный, который взглянул бы косо и, чего доброго, подумал бы: «Кажется, струсил…» То могли он, на которого «с верою и крепкой надеждою» взирала вся Россия, сам заговорить о возвращении? Ведь не кто-нибудь, не случайно присутствующий при разговоре, мало знакомый человек, а сама Россия могла бы заподозрить его в недостатке решимости идти навстречу смерти!.. Нет! Этого он не мог!.. Он мог и должен был доносить об истинном положении дел, открыто высказать беспристрастную оценку своих сил и сил неприятеля, сообщить свои планы, без утайки сказать, на что он надеется. ЭТО ОН СДЕЛАЛ… Но решающее слово принадлежало Петербургу. Ведь не мог же он допустить мысли, что «там» его не понимают или не хотят понять? Что патентованные стратеги не в состоянии оценить того положения, которое верно оценивает не только он сам, не только младшие флагманы, командиры, старшие офицеры, но даже и рядовые офицеры из числа послуживших и видевших виды?..
Мне, да и многим другим, план, им намеченный, казался продиктованным… безвыходностью положения, в котором мы очутились. Это была последняя попытка урвать от судьбы — хоть что-нибудь! Погибнуть — хоть не без пользы! Эта затея напоминала собою отчаянную атаку кавалерии генерала Маргеритта под Седаном: если нет другого исхода, то с лучшими силами — вперед!..
Помните ли вы этого генерала, как он, тяжко раненный в голову, падая на руки сопровождавших его адъютантов, обнаженной шпагой еще указывал своим полкам дорогу вперед?..
Вспомните, как, тяжко раненный в голову, сброшенный полутрупом с погибающего «Суворова» на «Буйный», адмирал Рожественский еще нашел в себе достаточно силы, чтобы в момент краткого проблеска сознания приказать отчетливым голосом: «Идти эскадрой! Владивосток! Курс NO 23 градуса!..»
Да!.. Если те, что могли и должны были понимать положение дел не хуже его, не приказывали ему возвращаться, то оставался только один путь — вперед! хотя бы на верную гибель!.. И чем скорее — тем лучше…
Старший флаг-офицер, лейтенант С, о котором я уже упоминал, состоял как бы личным секретарем адмирала, вел всю наисекретнейшую переписку, был посвящен во все тайны едва ли не более самого флаг-капитана, а главное, докладывая расшифрованные телеграммы, принимая для шифровки ответы, часто тут же составляемые, мог, ближе кого-либо другого, судить о впечатлении, которое вызывали в командующем эскадрой эти сношения.
Правда, по части хранения вверенной тайны покойный Е. В. был настоящей могилой, и, конечно, те не подлежащие оглашению сведения, которые он сообщал мне, в качестве старого товарища, веря в мою скромность, — никогда не станут достоянием гласности. Разве только в том случае, когда придется опровергать заведомую ложь, распространяемую лицами, заинтересованными в деле и старающимися обелить себя в надежде, что достоверные свидетели покоятся на дне Японского моря. Тогда — дело другое! И надеюсь, что сам Е. В. С. в таких обстоятельствах не пошлет мне своего замогильного упрека в нарушении доверия.
— Да, — говорил он, — вы, может быть, догадываетесь, но никто не знает доподлинно того, что переживает адмирал!.. Иной раз принесешь расшифрованную телеграмму. Читает. Пальцами перебирает этот листок бумаги. Кажется — вот разорвет в клочья… Нет. Сдержится. Начинает диктовать ответ. Много раз меняет редакцию, делает поправки, сердится на меня… Я уж молчу. Сам понимаю, что это не по моему адресу, сам встравлен… Или вдруг скажет, по-видимому, совершенно спокойно: «Оставьте здесь, я… после, сам напишу…» — а уходя, слышишь, как он ломает карандаш, бывший в руках, скрипит зубами и, задыхаясь от бешенства, сдавленным голосом, костит каких-то «предателей»…