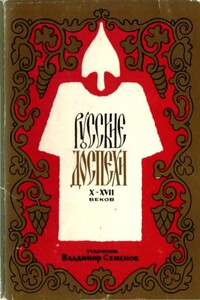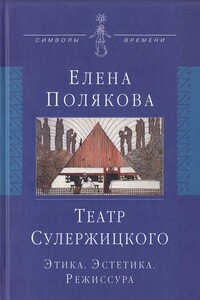Он отрывисто бросал свои недоговоренные фразы, полные желчи, пересыпанные крупной бранью (которую я не привожу здесь). — Это был крик бессильного гнева… Мы, случайные представители Генерального штаба и флота, слушали его, жадно ловя каждое слово, не обращая внимания на брань. — Мы сознавали, что она посылается куда-то и кому-то через наши головы, и, если бы не чувство дисциплины, взращенное долгой службой, мы всей душой присоединились бы к этому протесту сильного, энергичного человека, выкрикивавшего свои обвинения… Но странно: по мере того, как со слов нашего собеседника ярче и ярче развертывалась перед нами картина нашей беспомощности (как оказалось впоследствии, его сведения, хотя и отрывочные, были верными), — какое-то удивительное спокойствие сменяло мучительную тревогу долгих часов неизвестности и томительного ожидания…
Я взглянул на полковника. Он сидел, весь вытянувшись, откинувшись на спинку дивана, засунув руки в карманы тужурки, и казалось, что… если бы кто-нибудь, в этот момент, предложил ему фенацетина, то это могло бы кончиться очень дурно…
— Измена!.. Я верю, я не смею не верить, что бессознательная, но все же измена… — закончил путеец, тяжело переводя дух…
— Пусть так! не переделаешь! — воскликнул полковник. — Но все это — только начало. За нами Россия! — А пока — мы, ее авангард, мы, маленькие люди, — мы будем делать свое дело!..
И в голосе этого человека, всего час тому назад такого больного и слабого, мне послышалась та же звенящая нота, которой звучал голос молодого подпоручика, на вопрос «что ж делать будем?» крикнувшего «умирать будем!..»
И я снова поверил!..
В Нангалине опять застряли на несколько часов. Вагон-столовую почему-то оставили в Дальнем. Пришлось питаться в станционном буфете. Небольшая комната, носившая громкое название «буфет и зало I и II класса», была битком набита публикой, обитателями Квантуна, стремившимися частью в Артур, частью в глубь Маньчжурии. Здесь не слышно было разговоров ни о наших неудачах, ни о шансах будущего… Глухие удары минных взрывов, обессиливавших флот, печальные звуки орудийного салюта, провожавшие в могилу безвременно и бесполезно погибших борцов, — не достигали сюда. Снаружи плакала и злилась вьюга, наметывая сугробы над свежими могилами, а здесь — в душной комнате, в облаках пыли и табачного дыма, хлопали пробки, слышались речи о подрядах, поставках, об имуществах, приобретенных «за грош, по нынешним временам», швырялись бумажки и золото, чтобы «мне первому подали…».
Мы наскоро съели что-то и поспешили вернуться в поезд.
В Артур прибыли только около 11 ч. вечера. Полковника встретил и увез кто-то из офицеров его формирующегося полка; путейца — встретили товарищи, а я оказался совсем на мели. Бывшие спутники обещали прислать первого встречного извозчика. На этом пришлось успокоиться.
Неприятные полчаса провел я, сидя в углу станционной залы со своими чемоданами. Какая-то компания запасных нижних чинов, призываемых на действительную службу, но еще не явившихся, устроила здесь что-то вроде «отвальной».
Керосиновые лампы тускло светили в облаках табачного дыма и кухонного чада. На полу, покрытом грязью и талым снегом, занесенным с улицы, стояли лужи пролитого вина и пива, валялись разбитые бутылки и стаканы, какие-то объедки…
Обрывки нескладных песен, пьяная похвальба, выкрикивания отдельных фраз с претензией на высоту и полноту чувств, поцелуи, ругань… Общество было самое разнообразное — мелкие собственники, приказчики, извозчики… — рубахи-косоворотки и воротнички «монополь», армяки, картузы, пальто с барашковыми воротниками, шляпы и даже шапки из дешевого китайского соболя, окладистые бороды и гладко, «под англичанина» выбритые лица… Словно в тяжелом кошмаре, против воли, я смотрел, слушал, старался что-то понять, пытался уловить настроение этих будущих защитников Порт-Артура…
Как знать? — Может быть, это вовсе не пьяный угар, а богатырский разгул? — Раззудись, плечо, размахнись, рука!.. — Так, что ли?.. — не знаю… Во всяком случае, китаец, прибежавший сказать, что извозчик приехал, был встречен мною как избавитель.