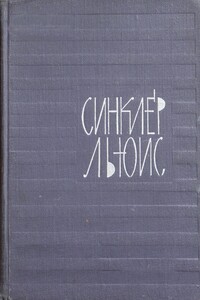Выползаем и начинаем переживать. Хотя, ему‑то что? Ножевому бою учил меня именно он, а не какой‑нибудь сэнсэй. Вот против лучников, конечно… Ну, ничего, подождем, и все решится само.
Юра вынырнул из темноты вслед за шестеркой лошадей. Понятно, тоже, как и я, ездить не умеет. Он бы их еще хворостиной, как коров, подгонял.
– Было шестеро, это их лошади, оседланы, – сообщил тихо. – Трое ушло охлюпкой. Там табун голов сто. Но о нас все равно знают. Пока ты был в отключке, я видел, что двоих, которых мы покалечили, куда‑то увезли. Наверное, недалеко, раз до утра дожидаться не стали. И эти трое, уверен, туда же поскакали. Думаю, у нас час‑два, не больше.
Я кивнул:
– В палатке одежда и оружие. Попей, там кумыс в бурдюке, и давай дядю Колю паковать. Должны управиться за пятнадцать минут. Видел, куда этих уродов повезли? Вот нам – в противоположную сторону.
Что‑то за нами погоня не поспешает. Едем уже часов шесть, почти шагом, я два раза падал, сейчас меня Юра привязал. Дядя Коля так ни разу и не очнулся. Нога кровит, совсем хана. И солнце палит, если так дальше пойдет, догонять нас не понадобится, сами сдохнем. Надо Юру отпускать. Все, товарищи, привал.
Хлюп! Стрела пригвоздила мою раненую ногу к коню. Прошла насквозь, и почти не больно, как в протез попали. По‑моему, в ту же рану вошла. Конь начал падать, и перед глазами завертелось зеленое, и голубое, и погасло.
…Ну, что… Повезло мне, что стреляли охотничьей стрелой, а не боевой – той можно и ногу отчекрыжить. С везением все – в остальном придется дальше помучиться. Дядю Колю убили. Юра сам как‑то умудрился убить одного гоблина, притворившись разбившимся при падении с лошади. Говорит, минут пятнадцать ждал, пока над ним склонятся. Привезли его в гоблинское стойбище, спину ножами изрезали, золой натерли и распяли на колышках – спиной кверху, на солнцепеке. Три дня лежал, мух кормил, и все стойбищенское население все это время ему на спину мочилось. Детишки очень потешались гоблинские, скучно им, хуже мух.
Теперь лежим в одной палатке, шаман приходит, лечит какой‑то дрянью. Кормят мясом, пить дают. Я, везунчик, пока Юру мучили, лежал без памяти в палатке, и что со мной делал шаман – не знаю, но не умер и в сознание пришел. По нашей слабости и беспомощности никто нас не связывает, поскольку даже по нужде не встать. Каждый вечер какая‑то старуха обтирает наши тела и меняет тряпки на повязках, но запах в палатке у нас такой, что в выздоровление я не верю. Да им это и не надо, главное, чтобы мы боль опять ощущать могли, сознание сразу не теряли. Второй акт марлезонского балета готовят. Это у местных вроде концерта, скучно живут, развлечений‑то нет. Индейцы, блин. Юра так сказал, и я с ним согласен.
Задачу мы с ним согласовали, выздоравливаем, то есть, доходим до кондиции по меркам дикарей, одновременно, чтобы нас по очереди на мясокомбинат не таскали. Берем на это недели две, если повезет, и пару деньков сверху придуриваем, копим силы, чтобы метров сто по прямой пройти могли. Если все удачно – срываемся, убьют, конечно, но как птицу – в полете. Вот такая у нас светлая идея – фикс.
…Недалеко мы ушли. Все по плану, по прямой метров сто, ночью. Оказывается, нас дети караулили, какие‑то уроды тут же выскочили из ближайшего вигвама или юрты, я в темноте не разобрал. Одного придушил, надеялся – убьют сразу. Думаю, и Юра своего сделал. Но жажда развлечений овладела народом прерий: нас связали и кинули в палатку.
…Утром настала моя очередь. Под радостное погыркивание толпы меня привязали к колышкам лицом к солнцу, и невидимый мне гоблин начал отрезать пальцы на ногах. Наверное, им понравилось, я не молчал. Кажется, отрезали все. Очнулся ночью, было тихо. Потом очнулся днем, дети тыкали меня прутиком в раны и совершали детские дела. Потом ко мне пришел Юра и лег рядом. Кожи у него не было.
…Думаю, я сошел с ума. В памяти какие‑то отрывки. Вот я ползаю в пыли на четвереньках, дети кидают в меня конские яблоки, а я собираю их и прижимаю к груди. Вот я в степи, и какая‑то коза тычется носом мне в лицо, хочу ее сьесть и пытаюсь укусить за щеку, а коза вырывается. Какой‑то мальчик бьет меня палкой, я плачу от обиды, ведь он мой друг. Вокруг все грохочет, вода, мне холодно, прижимаюсь к собаке, а она рычит и кусает меня. Не знаю, сколько это продолжалось, месяц, два, год, но постепенно начал понимать, что это я, я жив, и живу – здесь и так.