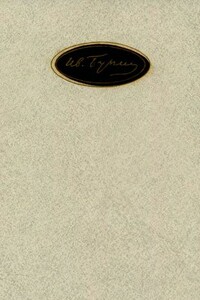— Кого, кого?
И снова голос горбуна пропел:
— Всех — на сорок лет в пустыню! И пусть мы погибнем там, родив миру людей сильных…
Кожемякин, усмехнувшись, сказал Максиму:
— Горбатый всегда так — молчит, молчит, да и вывезет несуразное.
Но, к его удивлению, Максим ответил:
— Он — умный.
А тенор Комаровского, всё повышаясь, пел:
— Голубица тихая — не слушайте их! Идите одна скромной своей дорогой и несите счастье тому, кто окажется достойным его, ибо вы созданы богом…
— Богом! — взвизгнула Галатская.
— Чтобы дать счастье кому-то, вы созданы для материнства…
— Видите? — спросил Максим, вставая с кривой усмешкой на побледневшем лице. — Он — хитрый…
— Зови их! — сказал Кожемякин, но Максим, не двигаясь, заложил руки за спину и крикнул:
— Чай пить!..
«Ревнует, видно!» — не без удовольствия подумал хозяин и вздохнул, вдруг загрустив.
К столу подошли возбуждённые люди, сзади всех горбун, ехидно улыбаясь и потирая бугроватый лоб. Горюшина, румяная и смущённая, села рядом с ним и показалась Кожемякину похожей на невесту, идущую замуж против своей воли. Кипел злой спор, Комаровский, повёртываясь, как волк, всем корпусом то направо, то налево, огрызался, Галатская и Цветаев вперебой возмущённо нападали на него, а Максим, глядя в землю, стоял в стороне. Кожемякину хотелось понять злые слова необычно разговорившегося горбуна, но ему мешали настойчивые думы о Горюшиной и Максиме.
«Тихая, покорная», — в десятый раз повторял он про себя.
И с тревожным удивлением слышал едкую речь горбуна:
— Вы кружитесь, как сор на перекрестке ветреным днём, вас это кружение опьяняет, а я стою в стороне и вижу…
Галатская, вспотев от волнения, стучала ладонью по столу, Цветаев, красный и надутый, угрюмо молчал, а Рогачев кашлял, неистощимо плевался и примирительно гудел на «о»:
— Господа, полноте!
— Вижу и знаю, что это — не забава! — криком кричал Комаровский. — Не своею волею носится по ветру мёртвый лист…
Тут вдруг рассердился и Рогачев, привстал, глухим басом уговаривая Галатскую:
— Оставьте же! Это не разговор, а одно оригинальничание, кокетство!..
Заходило солнце, кресты на главах монастырских церквей плавились и таяли, разбрызгивая красноватые лучи; гудели майские жуки, летая над берёзами, звонко перекликались стрижи, кромсая воздух кривыми линиями полётов, заунывно играл пастух, и всё вокруг требовало тишины.
«Спорили бы дома, не здесь!» — устало и обиженно подумал Кожемякин, говоря вслух:
— А Марк Васильич не идёт…
Горюшина, вздрогнув, виновато оглядела всех и тихонько сказала, что не придёт сегодня дядя Марк — отец Александр заболел лихорадкой, а дядя лечит его.
— Не лихорадка у него, а запой начался! — усмехаясь, пояснил Сеня.
Горюшина, вздохнув, опустила глаза.
«Овца!» — подумал Кожемякин, разглядывая синеватую полоску кожи в проборе её волос, и захотел сказать ей что-нибудь ласковое, но в это время Комаровский сердито и насмешливо спросил:
— Почему вы говорите лихорадка, зная, что у попа — запой?
— Зачем же рассказывать плохое? — ответила она.
— Так! — с удовольствием сказал Кожемякин.
Но Сеня поглядел по очереди на него, на Горюшину и снова спросил, кривя рот:
— Надеетесь, что плохое само собою исчезнет, если молчать о нём?
Сзади Кожемякина шумно вздохнул Максим, говоря:
— Вот привязывается человек!.. Не отвечайте ему, Авдотья Гавриловна.
«Надо бы мне заступиться за неё!» — чуть не вслух упрекнул себя Кожемякин.
А Галатская, поправив на голове соломенную шляпу с красным бантом, объявила:
— Ну-с, мы уходим…
Цветаев надевал белую фуражку столь осторожно, точно у него болела голова и прикосновение к ней было мучительно. Рогачев выпрямился, как бы сбрасывая с плеч большую тяжесть, и тихо сказал:
— До свиданья!
И гуськом, один за другим они пошли по дорожке.
— Видели вы, — спросил Комаровский, — как она в самовар смотрелась, Галатская-то, поправляя шляпу?
— Разве это нехорошо? — тихо осведомилась Горюшина.
— Смешно…
Женщина, недоверчиво взглянув на него, сказала:
— Почему же? Если шляпа криво надета — тогда смешно…
— Нет, — резко и задорно говорил Комаровский, — смешно, когда урод смотрит сам на себя.
— Ещё смешнее другим людям глядеть на него, — тяжело выговорил Максим.