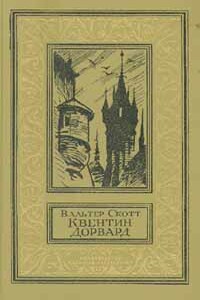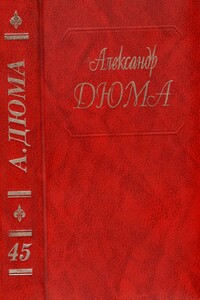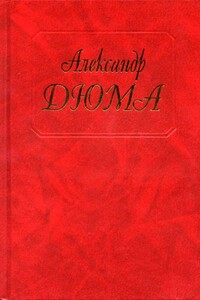Эвенела отдала душу создателю.
— Милосердный боже! — воскликнул помощник приора. — Неужели же из-за моей несчастной медлительности она отошла в иной мир без последнего напутствия церкви! Посмотрите хорошенько, сударыня, — нетерпеливо воскликнул он, — не осталась ли в ней хотя бы искорка жизни? Нельзя ли вернуть ее на землю, вернуть хотя бы на минуту? O! Если бы она могла хотя бы одним, самым неясным словом, одним самым слабым движением выразить свое участие в спасительных молитвах покаяния! Неужели же она не дышит? Вы уверены, что она не дышит?
— Она никогда больше не будет дышать, — отвечала вдова. — О, бедная сиротка, потерявшая отца, а теперь и мать! О, дорогая моя подруга, прожившая со мной столько лет, которую я никогда больше не увижу! Но она теперь наверняка на небесах, ибо какой же еще женщине там быть, если не ей? Ибо уж лучше ее женщины…
— Горе мне, — причитал несчастный монах, — если она отошла от нас без уверенности в своем спасении. Горе безрассудному пастырю, который позволил волку утащить избранную овцу из стада в то время, когда он готовил пращу и дубину, чтобы поразить зверя! Что, если в жизни, бесконечной для этой несчастной души, было уготовано блаженство? Как дорого обошлась ей моя медлительность! Она заплатила за мой промах спасением своей Души.
С этими словами он приблизился к безжизненному телу, полный глубокого раскаяния, столь естественного для человека его убеждений, всей душой исповедующего учение католической церкви.
— Увы! — промолвил он, взирая на остывший труп, от которого дух отлетел так незаметно, что улыбка осталась на тонких посиневших губах покойницы. — Увы! — повторил он, следя за спокойным выражением ее лица, столь истощенного болезнью, что никакая гримаса страдания не могла исказить его черты. — Вот лежит оно, поваленное древо, на том самом месте, где его сразил топор. Ужасно помыслить, что, может быть, из-за моего нерадения оно будет теперь гореть в вечном огне! — И он принялся снова и снова умолять госпожу Глендининг как можно подробнее рассказать ему все, что было ей известно об образе жизни и поведении усопшей.
Ответы были в высшей степени лестные для покойной леди Эвенел, ибо ее приятельница, весьма уважавшая ее при жизни (правда, не без легкого оттенка зависти), теперь, после ее смерти, просто боготворила ее и не могла найти достаточно сильных выражений, чтобы воздать ей хвалу.
Надо сказать, что хотя леди Эвенел в глубине души и сомневалась в некоторых догматах римской церкви, втайне отклонялась от этого извращенного христианского учения и прибегала к той книге, которая является основой христианства, — она тем не менее регулярно посещала церковные службы и, вероятно, еще не дошла в своих сомнениях до того, чтобы отвергать причастие. Таковы были взгляды ранних реформаторов той эпохи, стремившихся — по крайней мере временно — избежать раскола, пока неистовство папы не сделало его неизбежным.
Отец Евстафий с жадным вниманием прислушивался к каждому слову, которое могло убедить его в том, что леди Эвенел была тверда в исповедании основ истинной веры, ибо его мучила совесть, что он медлил в разговорах с хозяйкой Глендеарга, вместо того чтобы сразу поспешить туда, где он был особенно нужен.
— Если ты, — обратился он к недвижимому телу, — если ты не подлежишь страшной каре, ожидающей приверженцев лжеучений, если тебе придется страдать лишь некоторое время, чтобы искупить проступки, порожденные слабостью тела, но не смертным грехом, не бойся, что долгим будет твое пребывание в месте печали и воздыхания. Я постараюсь сделать все, чтобы помочь твоему освобождению, — я буду поститься, служить заупокойные обедни, читать покаянные молитвы и умерщвлять свою плоть, пока тело мое не станет подобно этим останкам, покинутым душой. Святая церковь, наша божественная обитель, сама наша присноблаженная покровительница матерь божия заступятся за ту, чьи заблуждения уступают стольким добродетелям. Теперь оставьте меня, сударыня, здесь, у ее смертного одра, — я совершу те обряды, которые необходимы при этих печальных обстоятельствах.