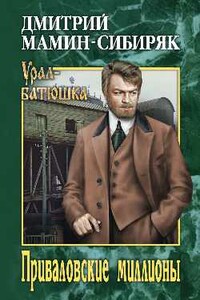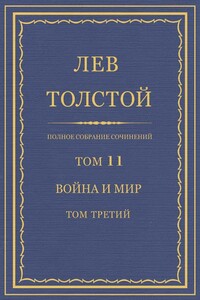— Пора бы ей быть дома, — смущенно заявлял воевода. — Не попритчилось ли какого дурна на дороге, не ровен час!..
В сущности, воевода думал про себя, что как бы хорошо вышло, ежели бы бунтовщики порешили его воеводшу, а он остался бы вдовцом. Время бурное, и все может быть. Прямо он этого не высказывал, но про себя согрешил, подумал. И жаль воеводшу, пожалуй, и хорошо бы пожить на своей полной воле. Воеводша приехала совершенно неожиданно ночью, когда ее никто не ждал. Колымага прилетела к городским воротам на всех рысях, спасаясь от погони. Ударили тревогу, и всполошился весь город. Оказалось, что колымагу остановили пять вершников еще на Калмыцком броду, чуть не в виду Прокопьевского монастыря. Первый, кто заглянул в колымагу, был Терешка-писчик. Дарья Никитична вся обмерла со страху, ожидая неминучей смерти, но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал кошелек да разную ценную рухлядь.
— Терешка, побойся ты бога, — взмолилась воеводша.
— Это вы побойтесь теперь бога-то, а мы достаточно его боялись, — с холопскою наглостью ответил Терешка. — Поклончик воеводе… Скоро увидимся, и то я уж соскучился.
Из других вершников[45] напугал воеводшу рослый молодой детина в бараньей шапке с красным верхом. Он, видимо, был за начальника. Заглянув в кибитку, молодец схватил уже воеводшу за руку, но Терешка его остановил:
— Оставь, Тимошка… Старуха добрая, и воевода по ней соскучился. Пусть порадуется, што старушка благополучно доехала.
По всем приметам, это был Тимошка Белоус, тот самый беломестный казак[46], который сидел за дубинщину в усторожской судной избе и потом бежал. О нем уже ходили слухи, что он пристал к мятежникам и даже «атаманит».
— Посмеялись они над нелюбимою женою, — жаловалась воеводша. — Ну, да бог их простит… Чужой человек и обидит, так не обидно, а та обида, которая в своем дому.
Воеводша встретилась с мужем, как и следует жене: вида никакого не подала, что сердится или обижена. Воевода порядком струхнул и немного совестился. Оба вместе думали одно и то же: напущена беда со стороны. Старуха обошла свои покои вместе с игуменом Моисеем и попросила окропить их святою водою, чтоб и духу от недавней нечисти не осталось. А потом, как ни в чем не бывало, стала рассказывать привезенные новости. Воровские люди уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе со всеми бумагами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освободили колодников, а приказчиков перебили. Народ ходит пьяный. Приставов и уставщиков перевязали и мучат всякими муками.
— Похваляются Прокопьевский монастырь взять, — рассказывала воеводша, покачивая головой. — На монастырскую казну зарятся… А потом, говорят, и Усторожью несдобровать.
— А про дьячка Арефу не слыхать? — полюбопытствовал Гарусов.
— Как же, пали слухи и про него… Он теперь у них в чести и подметные письма пишет. Как-то прибегала в обитель дьячиха-то и рекой разливалась… Убивается старуха вот как. Охоньку в затвор посадили… Косу ей первым делом мать Досифея обрезала. Без косы-то уж ей деваться будет некуда. Ночью ее привезли, и никто не знает. Ох, срамота и говорить-то… В первый же день хотела она удавиться, ну, из петли вынули, а потом стала голодом себя морить. Насильно теперь кормят… Оборотень какой-то, а не девка.