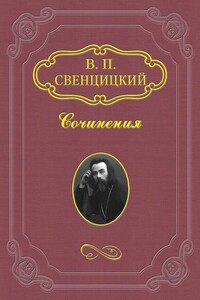Она кажется ему «блаженной тенью, тенью елисеиской…» Но едва вступил в нее вновь человек, как сразу «все смутилось», по кипарисам пробежал «судорожный трепет», замолк фонтан, послышался некий невнятный лепет… Тютчев объясняет это тем, что —
злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла.
Чтобы победить в себе «злую жизнь», чтобы не вносить в мир природы «разлада», надо с нею слиться, раствориться в ней. Об этом определенно говорит Тютчев в своем славословии весне:
Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!..
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастей будь!
В другом стихотворении («Когда что звали мы своим») он говорит о последнем утешении — исчезнуть в великом «все» мира, подобно тому, как исчезают отдельные реки в море. И сам Тютчев то восклицает, обращаясь к сумраку: «Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай!», то высказывает желание «всю потопить свою душу» в обаянии ночного моря, то, наконец, с великой простотой признается: «Бесследно все, и так легко не быть!»
Тютчев спрашивает себя:
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник!
Он мог бы и дать ответ на свой вопрос: оттого, что человек не ищет слияния с природой, не хочет «отвергнуть чувств обман», т. е. веру в обособленность своей личности. Предугадывая учение индийской мудрости, — в те годы еще мало распространенное в Европе, — Тютчев признавал истинное бытие лишь у мировой души и отрицал его у индивидуальных «я». Он верил, что бытие индивидуальное есть призрак, заблуждение, от которого освобождает смерть, возвращая нас в великое «все». Вполне определенно говорит об этом одно стихотворение («Смотри, как на речном просторе»), в котором жизнь людей сравнивается с речными льдинами, уносимыми потоком «во всеобъем лющее море». Они все там, большие и малые, «утратив прежний образ свой», сливаются «с роковой бездной». Тютчев сам и объясняет свое иносказание:
О, нашей мысли обольщенье,
Ты — человеческое я…
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя!
Истинное бессмертие принадлежит лишь природе, в ее целом, той природе, которой «чужды наши призрачные годы». Когда «разрушится состав частей земных», все зримое будет покрыто водами, —
И божий лик изобразится в них.
Даже любимые дети природы, не знающие с ней разлада: лес, река, поля — приближаются к этому бессмертию. Им дана жизнь многих столетий. Они, словно «с брегов иного света», доходят до нас из прошлых веков («Через ливонские я проезжал поля»). В далеком будущем они останутся такими же, каковы они сегодня:
Пройдут века,
Так же будет в вечном строе…
Течь и искриться река,
И поля дышать на зное…
Между тем человека ждет полное исчезновение. «Всепоглощающей и миротворной бездной» приветствует природа «бесполезный подвиг» людей. «Бесследно все», говорит Тютчев о судьбе людей, и добавляет с безнадежностью:
то уйдет всецело,
Чем ты дышишь и живешь…
Замечательно, что в пантеистическом обожествлении природы Тютчев-поэт как бы теряет ту свою веру в личное божество, которую со страстностью отстаивал он, как мыслитель. Так, в ясный день, при обряде погребения, проповедь ученого, сановитого пастора о крови Христовой уже кажется Тютчеву только «умной пристойной речью», и он противополагает ей «нетленно-чистое» небо и «голосисто реющих в воздушной бездне» птиц. В другую минуту, «лениво дышащим полднем», Тютчеву сказывается и самое имя того божества, которому действительно служит его поэзия, — имя «великого Пана», дремлющего в пещере нимф… И кто знает, не к кругу ли этих мыслей относится странное восклицание, вырвавшееся у Тютчева в какой-то тяжелый миг:
Мужайся, сердце, до конца…
И нет в творении творца,
И смысла нет в мольбе!
III
Из противоположения бессилия личности и всемогущества природы возникает страстное желание хотя на краткое мгновение заглянуть в тайные глубины космической жизни, в ту ее душу, для которой все человечество — лишь минутная греза. Тютчев это желание называет жаждою «слиться с беспредельным» («О чем ты воешь, ветр ночной»). Ему кажется, что человеческая душа — «в узах заключенный дух», который «на волю просится и рвется» («Ю. Ф. Абазе»).