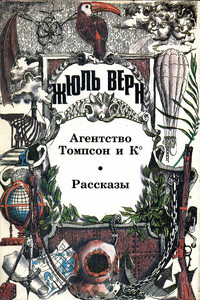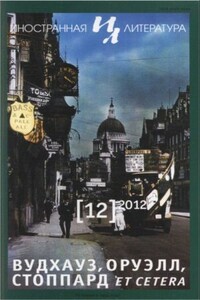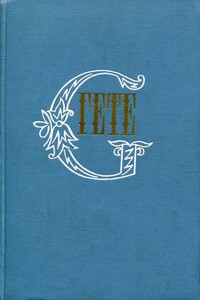Том 6. Статьи и рецензии. Далекие и близкие - страница 156
Впрочем, эти два стиха (как и многое в стихах Пушкина, кажущихся такими понятными, такими «несомненными») требуют объяснения. Смысл можно понимать двояко: кто приведет? две «сами пришедшие» рифмы приведут третью с собой? Или, после того как две «пришли сами», третью должен «привести» — кто? поэт? Второе толкование нам кажется более правильным, т. е. полагаем, что такой смысл придавал своим словам и Пушкин. «Я с рифмами не стесняюсь. Две придут. Третью я приведу насильно». Иначе говоря: не всегда рифмы «приходят» к поэту, иногда надобно их «приводить»…
Но пришедшие ли, приведенные ли рифмы великих поэтов — все имеют одну характерную особенность: они нужны по складу речи, а не только как отметка в конце стиха. То, что послужило поводом к возникновению рифмы, ради чего она появилась (become), стало самой последней из ее обязанностей — даже такой, которой как бы стыдятся, стараются скрыть. Сутью рифмы, тем, что она есть (are), оказалось нечто иное, и только попутно, кстати, стала она исполнять и обязанности «отметки в конце стиха». На передний план выступили три главных назначения рифмы: смысловое, звуковое и символическое; «значение отметки» осталось лишь четвертым. Иногда рифма выполняет все четыре свои назначения, но это редко; чаще — четвертое и лишь одно из первых трех или два из них. Иногда эти первые значения преобладают настолько, что как бы стирают, уничтожают четвертое, казалось бы — неизбежное. Так бывает в рифмах «переносных», например у Эдгара По:
Или у Ф. Сологуба:
«Become» исчезло, поглощенное «are».
Смысловое назначение рифмы — выдвигать слова и образы, ставить на них ударение. Слова, поставленные под рифмой, получают особую силу. Пушкин, например, подчеркивает:
Звуковое — дать особую красоту звукам стиха. Примеры — на каждой странице Пушкина, хотя бы:
Символическое — напомнить ряд других стихов:
Тайна «легкой» рифмы в том, что рифмующееся слово неизбежно должно стоять на конце стиха, независимо от того, какое окончание нужно для созвучия:
Здесь «легкость» достигнута «естественностью» в размещении слов; но может быть иначе:
Этой «неизбежностью» Пушкин делает «легкими» даже самые «изысканные» рифмы:
Однако уже тот же Пушкин жаловался, что русских рифм — мало. Великий поэт был не вполне прав. Во французском, например, языке большинство слов имеет более богатый выбор созвучий — большинство, но не все: даже банальное «reve» неизбежно влечет за собою «greve», или «sans treves», или «leve» и «se leve», как по-русски: «любовь» — «вновь», «кровь», «прекословь». Правда, два-три русских слова излюбленных поэтами, как «сердце», «солнце», «смерть», имеют крайне убогий круг созвучий, но таких слов немного. Эта бедность сторицей искупается безмерным богатством наших рифм по окончанию; французы лишь искусственно отличают женскую рифму от мужской (в народных стихах они путаются), у нас прибавляется рифма дактилическая (трехсложная) и не малое число ипердактилических (4-сложных, 5-сложных и т. д., вплоть до 8-сложных!). Наше неотчетливое произношение неударных гласных дает нам бесконечный выбор приблизительных рифм, звучащих, пожалуй, еще приятнее, нежели вполне точные, например: «светом — поэтам», «алый — провалы», «разом — разум». Наши уцелевшие флексии (коих во французском языке — лишь жалкие следы) дают нам великое разнообразие отношений между рифмами: мы можем рифмовать один падеж с другим, существительное с прилагательным, с глаголом, с наречием, с предлогом, разные формы глагола между собою и т. д., и т. д. Это ли бедность?