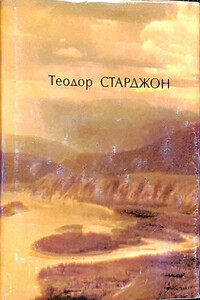Зловещее и смутное есть что-то
И в сумерках осенних, и в дожде,
Оно растет и ширится везде…
И дальше оказывается, что это «оно»:
в сумраке неосвещенных лестниц
Глядит в пролет и дышит в темной нише…
…слушает, как прядает струя
Из медных кранов в звучные бассейны…
«Но что оно?» — спрашивает поэт, и отвечает: «Названья нет ему!» Мы можем ответить за поэта. Это «оно» — есть полнота этой жизни, принятой во всех ее проявлениях, от великого до позорного, от самого прекрасного до самого безобразного. Фофанова эта полнота ужасала; он бежал от нее в свои певучие строфы о «волшебнице-весне», о «румяном мае», «о ландыше», который «похристосовался с белокрылым мотыльком». И через всю поэзию Фофанова проходит эта борьба двух начал: романтизма, зовущего поэта укрыться в «гротах фантазий», и человека наших дней, смутно сознающего все величие, всю силу, все грозное очарование современного мира. В этой борьбе — истинный пафос поэзии К. Фофанова.
1911
II. Кипарисовый ларец[124]
О И. Ф. Анненском последний год писали и говорили много. Несомненно, к нему приближалась запоздалая, но совершенно им заслуженная широкая известность. Истинный поэт, тонкий критик, исключительный эрудит, человек во всем и всегда оригинальный, на других не похожий, И. Анненский должен был, наконец, обратить на себя внимание и «большой публики». Как все помнят, неожиданная смерть оборвала его деятельность именно в ту пору, когда она начала приобретать общественное значение и настоящее влияние.
Второй, уже посмертный, сборник стихов И. Анненского содержит сотню стихотворений, искусственно и претенциозно распределенных в «трилистники» (по три) и «складни» (по два). Различные по глубине замысла и по тщательности выполнения, всё эти стихотворения объединены тем, что Баратынский назвал «лица необщим выражением». И. Анненский обладал способностью к каждому явлению, к каждому чувству подходить с неожиданной стороны. Его мысль всегда делала причудливые повороты и зигзаги; он мыслил по странным аналогиям, устанавливающим связь между предметами, казалось бы, вполне разнородными. Впечатление чего-то неожиданного и получается, прежде всего, от стихов И. Анненского. У него почти никогда нельзя угадать по двум первым стихам строфы двух следующих и по началу стихотворения его конец, и в этом с ним могут соперничать лишь немногие из современных поэтов. Эпитеты, сравнения, обороты в стихах И. Анненского, даже самые выбираемые им слова, всегда свежи, не использованы… Его можно упрекнуть в чем угодно, только не в банальности и не в подражательности. Манера письма И. Анненского — резко импрессионистическая; он все изображает не таким, каким он это знает, но таким, каким ему это кажется, притом кажется именно сейчас, в данный миг. Как последовательный импрессионист, И. Анненский далеко уходит вперед не только от Фета, но и от Бальмонта; только у Верлена можно найти несколько стихотворений, равносильных, в этом отношении, стихам И. Анненского. Впрочем, кое-где он явно старается сознательно о таком импрессионизме, и поэтому некоторые его стихотворения не просты, надуманы. В общем, однако, его поэзия поразительно искренна. Его стихи раскрывают перед нами душу нежную и стыдливую, но слишком чуткую, и потому привыкшую таиться под маской легкой иронии. И эта ирония стала вторым лицом И. Анненского, стала неотделима от его духовного облика.
Своеобразные, капризные ритмы и намеренно неправильный, хотя изысканно обдуманный стиль И. Анненского прекрасно подходит к духу его поэзии.
1910
III. Нечаянная радость[125]
В книге А. Блока радует ясный свет высоко поднявшегося солнца, побеждает уверенность речи, обличающая художника, вполне сознавшего свою власть над словом.
Александра Блока, после его первого сборника стихов («Стихи о Прекрасной Даме»), считали поэтом таинственного, мистического. Нам кажется, что это было недоразумением. Таинственность иных стихотворений А. Блока происходила не оттого, что они говорили о непостижимом, о тайном, но лишь оттого, что поэт много в них не договаривал. Это была не мистичность, а недосказанность. А. Блоку нравилось вынимать из цепи несколько звеньев и давать изумленным читателям отдельные, разрозненные части целого. До той минуты, пока усиленным вниманием читателю не удавалось восстановить пропущенные части и договорить за автора утаенные им слова, — такие стихотворения сохраняли в себе прелесть чего-то странного и почти жуткого. Этот прием «умолчания» нашел себе многочисленных подражателей и создал даже целую «школу Блока». Но сам А. Блок, по-видимому, понял всю обманность прежних чар своей поэзии. В его стихах с каждым годом все меньше «блоковского», и перед его читателями все яснее встает новый, просветленный образ поэта.